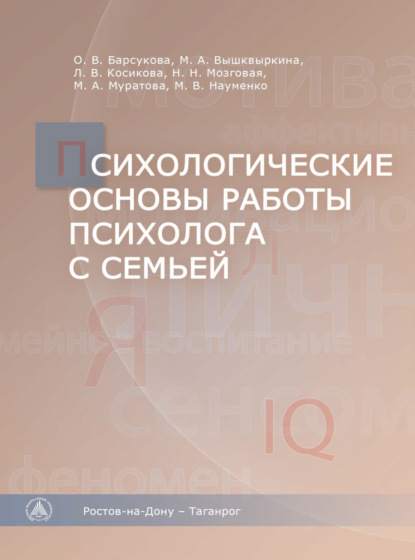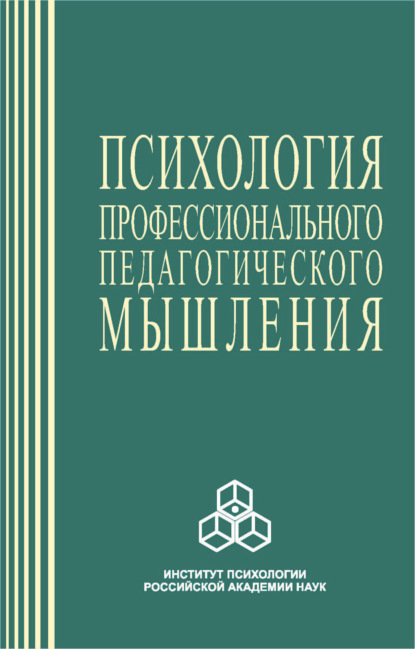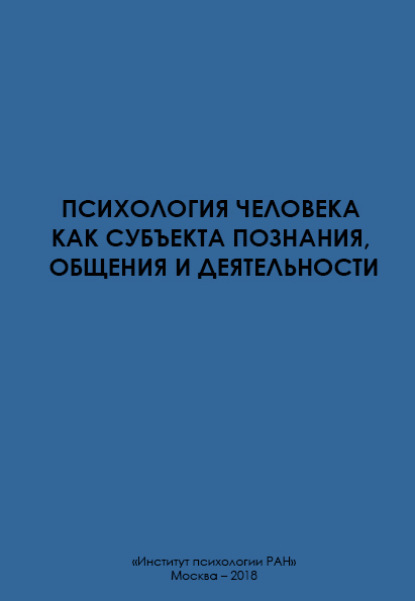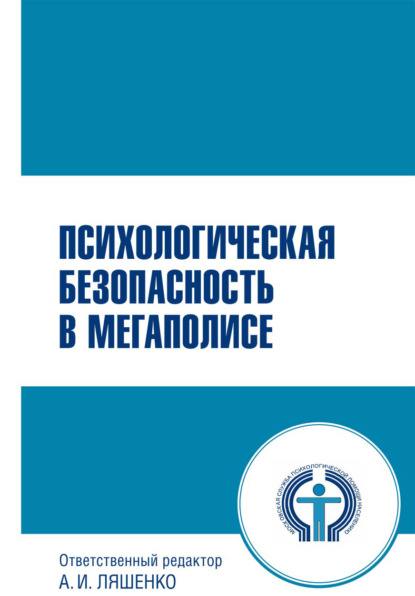Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона». Из цикла «Волшебная сила искусства»
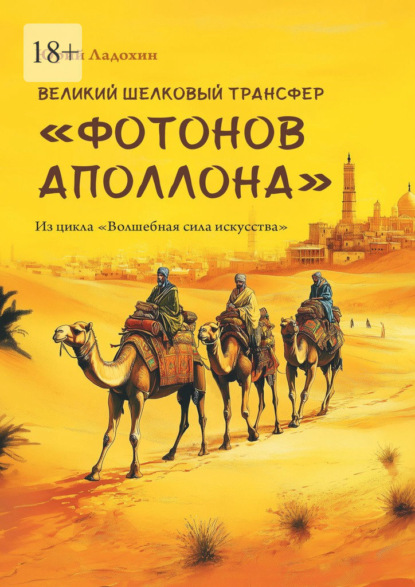
- -
- 100%
- +
Ареалы применений уникальной ткани легко раздвигались вширь – хватило бы фантазии: «Из шелка изготовляли струны для музыкальных инструментов, тетивы для луков, делали лески для рыбной ловли и использовали шелковую ткань для пошива одежды для воинов, поскольку шелковая нить является более прочной, чем стальная нить равного диаметра. Но шелк обладал и еще одной важной особенностью при торговле на дальние расстояния – он был очень легким, но стоил очень дорого, то есть обладал высокой добавленной стоимостью. Иными словами, одновременно могли перевозиться значительные весовые объемы шелка, обеспечивавшие огромные прибыли для торговцев. В известном смысле шелк играл такую же роль для формирования Евразийской цивилизации, как паровой двигатель Уатта для создания Великой Британской империи» (Там же).
Сравнение с главной новацией промышленной революции, конечно, крайне престижно, но что действительно сделало китайский шёлк настолько ценным? – «Это сложность процесса производства. Производство шёлка было долгим и трудоемким процессом, что повышало его стоимость и эксклюзивность. Шёлк привозили в подарках для иностранных послов, а также использовали для создания картин, ковров и церковных облачений. В Древнем Китае шелк был настолько ценен, что в некоторых случаях его использовали как средство обмена. Например, в торговых соглашениях шёлк мог быть эквивалентом драгоценных металлов или других ценностей» (из статьи Риммы Нариниан «Китайский шёлк: вечный символ утончённости», 10.11.2024).
Именно в силу своих уникальных свойств «примерно со II столетия н.э. именно шелк стал основным товаром, который везли китайские купцы в далекие страны. Компактный и легкий товар был удобен в транспортировке и привлекал пристальное внимание многих торговцев по маршруту следования каравана, несмотря на свою дороговизну. Он высоко ценился в Средней Азии и Туркестане, Индии и Риме, в Александрии. Говорят, царица Клеопатра полюбила весьма роскошные одежды из шелка, а в первые века н.э. в Риме существовал даже специальный рынок шелка. Известно также, что вестготский король Аларих при осаде Рима в 408 году потребовал в качестве равноценного выкупа 4000 туник из этого материала» (из статьи Евгении Мережко «Легенды Шелкового пути», 13.03.2019).
Тайну технологии изготовления шелка китайские правители берегли не хуже, пожалуй, чем план расположения охранных постов в Запретном городе в Пекине. Но если кое-кто из средневековых алхимиков, как пишут, всё-таки докопался до тайны философского камня, то чем труднее дорога к получению тончайшей и прочнейшей из существующих тканей?
Впрочем, как и ожидалось, не обошлось здесь без прекрасной дамы, не мыслящей себя без нарядов из изысканного и струящегося шелка: «В разные времена огромные усилия прилагались к тому, чтобы выведать тайну производства шелка. К примеру, правитель Хотана {ныне это город на юго-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР} никак не мог заполучить рецепт изготовления тончайшего материала. По совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее будущего супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шелка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой коконы шелкопряда и семена тутового дерева» (Там же).

Чего не сделаешь ради элегантности и роскошных нарядов? – «Девушку недолго одолевали мучительные сомнения: выдавать или не выдавать государственную тайну. Все, что требовалось, она привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, которую пограничная стража не имела права досмотреть, а семена – в багаже с травами и снадобьями. Самое интересное заключается в том, что предприимчивая невеста мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги и экспертов по разведению шелкопряда и шелкоткачеству. И даже садовника, специалиста по выращиванию шелковицы. А технология производства шелка, контрабандой завезенная в Хотан, вскоре оказалась и в других государствах, к примеру, получила широкое распространение в Индии» (Там же).
Но коконы шелкопряда не только создавали дивный мир услады для глаз, но и стали материальной основой для интенсивной интеллектуальной деятельности: «Найденные учеными документы и частные письма, датируемые II—V столетиями, свидетельствуют о том, что бумага, появившаяся в Китае примерно во II веке до н. э., через 300 лет широко использовалась в Центральной Азии. Состав самой первой в мире бумаги учеными полностью не раскрыт, но существуют предположения, что в качестве вспомогательного сырья использовались очески, образовавшиеся в процессе выделки шелковой ваты. Возможно, именно поэтому в иероглифе „чжи“ („бумага“) левая его часть означает „нить шелка“» (Там же).
Глава 3. «Голубой, как небо после дождя…». Фарфор
3.1. «Охота за совершенством». Так в чем же ценность фарфора
Вот кто бы из нас не хотел бы держать такое изделие в руках, любоваться его изысканными линиями, причудливым рисунком, соцветием красок, которое сохранит первоначальную свежесть многими столетиями? – «„Голубой, как небо после дождя, блестящий, как зеркало, тонкий, как бумага, звонкий, как гонг, гладкий и сияющий, как озеро в солнечный день“ – таким увидели европейцы фарфор, впервые привезенный из Китая в начале XVI века» (из статьи Д. Деминой «Керамика: его величество фарфор» // журнал «Химия и жизнь», №3, 2010 г.).
У такого чуда, как фарфор, обязательно должен быть стольный град, где производят самые неповторимые, штучные изделия. И он есть: «Наибольшей известностью пользуются изделия, выполненные в Цзиндэчжэне – городе, расположенном в восточной части Китая, в провинции Цзянси, считающемся всемирной столицей фарфора. Сияющий, белоснежный, покрытый разноцветной росписью цзиндэчжэньский фарфор считался одним из прекрасных и бесценных произведений искусства, а в Европе в XVI – XVII веках его называли „белым золотом“. Формы посуды и роспись отличались невероятным разнообразием. В Цзиндэчжэне было изобретено много видов фарфора – кобальтовый, полихромный, прорезной, покрытый красной или голубой глазурью, который затем обжигался при очень высоких температурах. Столетиями цзиндэчжэньский фарфор вывозили в разные страны по Великому шелковому и по Морскому керамическому путям» (из статьи И. Волковой «Эволюция проникновения китайского фарфора в Россию XVI – XVIII вв.», 29.11.2024).
Сама изящная керамика, технология изготовления которой до начала XVIII века была неизвестна европейцам, неизменно была окутана маревом слухов, порождала множество легенд: «Фарфору даже приписывали магические свойства. Так, например, считалось, что отравленная еда меняет зеленоватый цвет изделий мастерских Лунцюаня. Слухи о „волшебных“ свойствах фарфора проникая в Европу из Леванта {стран восточной части Средиземного моря} только способствовали созданию еще большего ареола тайны вокруг этих необычных предметов. Первоначально в Европе фарфор никак не мыслился в качестве посуды для простых смертных, его изображали на живописных полотнах для придания особого блеска сценам из Евангелия или из жизни богов-олимпийцев» (Там же).

Эстетический шок от появления фарфора в Старом Свете был настолько силён, что практически сразу изменил глобальные настройки не только во владениях ловкача Меркурия, но и беззастенчиво вторгся в полыхающую огнем зону Марса: «Когда Португалия открыла морские пути в Китай в 1513 году, она обнаружила фарфоровые изделия, которые „ошеломили глаза“, как выразился архиепископ Браги. Нидерланды последовали их примеру в феврале 1603 года, когда Голландская Ост-Индская компания перехватила португальский торговый корабль, перевозивший тонны китайского фарфора недалеко от Сингапура. Эти товары были настолько ценными, что когда они были проданы на аукционе в Амстердаме, то удвоили капитал торговой компании и разожгли Голландско-португальскую войну» (из статьи Павла Романютенко «Как китайский фарфор произвел фурор и изменил мировую экономику», 21.11.2020).
Но китайский фарфор как художественное откровение, не стесняясь признанных авторитетов, ворвался и в пространство девяти муз: «Китайский фарфор также повлиял на сервировку стола и искусство. Уже в 1615 году изящная посуда появляется в натюрмортах голландских художников, таких как Клара Петерс, Флорис ван Дейк и Осиас Берт. Блюда на этих картинах – это в основном чаши и чашки стандартных китайских форм, но европейцы вскоре захотели, чтобы их фарфор был адаптирован под каждую прихоть» (Там же).
Между тем не так уж много, пожалуй, есть на свете секретов, за спиной которых виднеется в темноте пристальный взгляд Танатоса. Для порцеллана (так иногда называют фарфор из-за сходства его поверхности с раковиной каури) это так: «Для англоязычного населения Земли фарфор и Китай – близнецы-братья, их обозначает одно и тоже слово „china“. Китайцы изобрели состав твердого фарфора ещё приблизительно в VI веке, т.е. за тысячу лет до того, как он стал производиться в Европе. Долгое время наряду с производством шёлка фарфор оставался одной из самых запретных и желанных для западных владык загадок Востока. Попытка её разгадать сродни настоящему детективу, ибо дерзнувшего на это в Китае ждал один приговор – смерть» (из статьи Олега Давыдовского «История фарфора», 21.09.2012).
Изобретение фарфора кто-то пытается представить цепью случайных находок, иные – что, думается, ближе к истине – говорят об удаче ищущих: «По преданию, древние китайцы не могли определиться с материалом для изготовления посуды: нефрит – дорого и святотатственно, глина – некрасиво и недолговечно, дерево – неэстетично. Потом совершенно случайно мастера нашли способ изготавливать фарфор… И этот способ остался большим и тщательно хранимым секретом для всего остального мира. Одна из составляющих этого большого секрета – сырье, из которого и производится фарфор. Провинция Цзянси оказалась сокровищницей фарфорового камня – горной породы, состоящей из кварца и слюды. Фарфоровую массу делали из брикетированного порошка фарфорового камня и каолина (особая глина, придаёт белизну изделию). Получившийся полуфабрикат выдерживали не один десяток лет, для приобретения им пластичности. После этого на очереди была печь, высокая температура в которой при обжиге изменяет физический состав массы, она становится прозрачной и водонепроницаемой» (Там же).

Жар таких печей был настолько адским, что сама технология уже взлетала в пространство легенд и сказок, а печи стали называть «драконьими»: «Около XI века была разработана новая конструкция печи для обжига. На холме, чтобы обеспечить естественный перепад высот и тягу, строили кирпичный тоннель (от 15 м в длину, 2—3 в ширину и два в высоту). Огонь разжигали внизу, закладывая огромное количество дров в топку (хвост дракона). Раскаленный воздух шел к выходному отверстию на вершине (в голове дракона). Специальные отверстия делались в стенках тоннеля для загрузки предметов обжига, а в своде – для усиления тяги. Открывая и закрывая их, можно было также добиваться разных химических реакций, которые окрашивали глазури в разные цвета. „Печи дракона“ позволили достигать температуры обжига в 1400 градусов, что сделало возможным появление фарфора» (из статьи Александры Герасимовой (Стениной) «Белое сокровище Китая», 21.02.2022).
Императорский заказ был суров, но зато ажурные изделия для Сына неба были фееричного качества: «На территории Чаннань, известной еще с периода Хань, император Чжен-цзун (1023—1063) повелел заложить две печи, которые производили фарфор для нужд двора. Поселок, где это происходило, стал именоваться Цзиндэчженем. Белизна фарфоровой массы не требовала цветных глазурей, а изделия из нее декорировали кобальтом – очень дорогой пигмент поставлялся по морю с Явы или Суматры. Именно в Цзиндэчжене добились получения тончайшего просвечивающего фарфора. Каолин (фарфоровый камень) перетирали до состояния пудры, смешивали с водой в тестообразную массу и оставляли созревать. Потом добавляли шпат и кварц и отбивали, чтобы „схлопнуть“ все поры. Именно так изделия получали особую прочность и водостойкость» (Там же).
А теперь остановимся на минуту, и задумаемся вместе: так чем же так хорош фарфор? – «Корабли везли в Европу фарфор, шёлк, чай, специи. Изделия из шёлка улучшали качество жизни и, порой, существенно её продлевали. Ведь человек, ставший на шёлковых простынях и носивший шёлковую одежку существенно реже сталкивался с клопами и блохами, которые были переносчиками массы заболеваний. Потребление специй сокращало количество пищевых отравлений и укрепляло иммунитет. Великолепный китайский чай наполнял организм витаминами и микроэлементами и также укреплял здоровье. Ну и фарфор, разумеется… Вечный и не подвластный времени, признак близкого присутствия аристократии и высшего общества. Фарфор был ещё и великолепным грузом – чаи, специи, шёлк подтапливало в трюмах. Белое золото не боялось ни воды, ни времени. Порой фарфор давал своим владельцам более, чем увеличение продолжительности жизни и улучшения её качества… Обладание фарфором могло дать место в обществе, уважение. Фарфор был капиталом, который можно передать детям и внукам» (из статьи И. Соколова «Охота за совершенством: заметки к истории фарфора», 23.11.2024).
В довесок – об одном аукционном рекорде: «В ноябре 2010 года в пригороде Пиннера (Pinner – известный район так называемого „Большого Лондона“) была найдена старая китайская ваза с рыбным мотивом. Брат и сестра устроили в доме генеральную уборку и нашли вазу. Первоначальная оценка предмета ошеломила владельцев: предполагаемая антикварами стоимость продажи предмета была в интервале от 800.000 до 1.200.000 фунтов стерлингов. Вазу выставили на аукцион, и она была продана за 53.105.000 фунтов стерлингов (!). Разумеется, с этих средств был взят налог и комиссионный сбор. Впрочем, даже 43 миллиона фунтов стерлингов не могли не обрадовать бывших владельцев вазы» (Там же).
3.2 «От сумы да тюрьмы…». Кто они – первоткрыватели европейского фарфора?
История первого европейского фарфора, так уж получилось, тесно связана с теневыми сторонами жизни. Пираты, алхимическое золото, тюрьма, присвоение чужой интеллектуальной собственности – что еще добавить?: «Фарфор доставлялся в Европу по морю, в основном, стараниями португальцев, которые заполучили „окно“ в Азию в виде своей колонии в Макао. Правда, их бизнесу мешали голландские пираты, практически контролировавшие Индийский океан. Риски включались в себестоимость фарфора, но спрос на него все равно устойчиво рос. Более того, он намного превышал предложение. Неудивительно, что найти секрет производства чудесного материала пытались ученые, тогда их называли натурфилософы, и предприниматели в разных частях Европы» (из статьи Эдуарда Кукуя «Китайский фарфор», 11.02.2024).
Многое правители Европы хотели водрузить на голову престижную коалиновую корону Фарфорового короля. В ход шли любые средства. Франция, скажем, не гнушалась даже использованием наглого промышленного шпионажа: «В 1698 году в Китай прибыл французский священник-иезуит Франсуа Ксавье д’Антреколь. Был он человеком общительным и обаятельным, умел устанавливать нужные контакты. Находясь в Цзиндэчжэне, святой отец внимательно наблюдал за работой печей и ненавязчиво выведывал информацию о производстве фарфора. Это требовало ума, настойчивости и терпения: технологический процесс был разбит на этапы и поделен между несколькими семьями, проживавшими в городе. Приходилось общаться со всеми. В 1712 году д’Антреколь отправил из Китая во Францию письма, в которых подробно изложил технологию изготовления фарфоровых изделий. Получателем был другой священник, который вскоре опубликовал их в ежегодном отчете миссий иезуитов и тем самым предал огласке секретную технологию» (из статьи Дмитрия Писаренко «Украсть ноу-хау. Яркие истории промышленного шпионажа», 18.05.2022).
Но всех сумел опередить «правитель Саксонии Август Сильный. Конечно, не он, а его подопечные, но именно этот амбициозный курфюрст был держателем акций первой фарфоровой мануфактуры. Помог ему осуществить этот грандиозный проект Иоганн Фридрих Бёттгер (Johann Friedrich B; ttger), алхимик и авантюрист. Юный Иоганн Фридрих, ученик аптекаря, был очень способным на многое и не только в фармацевтике. Пытаясь заработать себе репутацию и пропитание, он принародно превращал медные монеты в золотые. Скорее всего, с помощью раствора ртутной амальгамы (из статьи Эдуарда Кукуя «Китайский фарфор», 11.02.2024).
Радеющий за пополнение государственной казны Август Сильный «встретился с Бёттгером и предложил ему покровительство, деньги, книги, средства производства, все для того, чтобы процесс производства золота поставить на поток. Он посадил алхимика под замок с четкой установкой: или ты начнешь делать золото, или я тебя повешу. Чтобы Иоганн Фридрих находился под присмотром, его определили в крепость Кёнигштайн, управлял которой Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус, математик, философ, изобретатель и специалист по стекольному производству. Он уже несколько лет работал над секретом рецептуры и технологии фарфора. Но открыл его Иоганн Фридрих Бёттгер, доложивший правителю Саксонии через шесть лет заточения, что ему удалось произвести тонкий, звонкий фарфор, не уступающий китайскому в белизне и изяществе. По легенде, он обратил внимание на главное составляющее фарфора – каолин, которым местные цирюльники из экономии посыпали парики вместо дорогой французской пудры и использовал его в своих экспериментах» (Там же).

Тем временем, как выяснили журналисты журнала «Химия и жизнь», авторство Бёттгера оказалось небылицей и беззастенчиой кражей чужого изобретения: «Первым предложил состав и технологию производства фарфора немецкий физик Эренфрид Чирнгауз в 1703 году. Вместе с ним работал Иоганн Бёттгер, придворный алхимик саксонского курфюрста Августа Сильного. После внезапной смерти Чирнгауза Бетгер объявил себя изобретателем европейского фарфора. Но только через четыре года в замке Альбрехтсбург он получил фарфор, внешне очень похожий на китайский. В 1710 году Август построил первую в Европе фарфоровую фабрику в городе Мейсене недалеко от Дрездена. И по сей день знаменит мейсенский фарфор – тонкий, утонченно-строгий, прозрачный, звонкий. Его эмблема – скрещенные синие мечи, – ставшая престижнейшим товарным знаком, наносится на каждое изделие вручную начиная с 1722 года. Август по-королевски «отблагодарил Бёттгера: чтобы сохранить в тайне рецептуру фарфоровой смеси, он заточил его в тюрьму, там Бёттгер и умер в возрасте 37 лет» (из статьи Д. Деминой «Керамика: его величество фарфор» // журнал «Химия и жизнь», №3, 2010 г.).
Ничуть не благостнее оказалась история создания первого российского фарфора. Его отечественный аналог создал «Дмитрий Иванович Виноградов, уроженец города Суздаля. Д. И. Виноградов учился в Марбургском университете, а также работал в рудниках и шахтах Фрейберга в Саксонии. В 1744 г., получив звание бергмейстера, он вернулся в Россию. Он должен был работать по горному ведомству, но судьба сложилась иначе. После выступления молодого специалиста на заседании Берг-коллегии Академии наук президент Берг-коллегии произнес знаменательную фразу: «Я от всех доселе выписанных иностранных мастеров ни одного не знаю, который бы его, Виноградова, во всех частях горной науки чем перешел…«» (из статьи Олега Давыдовского «История фарфора», 21.09.2012).
Именно Виноградову поручили раскрыть секрет производства фарфора. Поиски наилучшей рецептуры велись в обстановке повышенной секретности, чтобы не дать конкурентам никаких шансов. В 1752 году в цехах «порцелиновой» мануфактуры в Санкт-Петербурге первый этап создания фарфора был завершен: «Составляя рецепт, Виноградов старался зашифровать его, применяя итальянские, латинские, древнееврейские и немецкие слова, пользуясь сокращениями. Это объясняется тем, что ему давались указания засекречивать работу, насколько это возможно. Помимо разработки рецептуры фарфоровой массы и исследования глин различных месторождений, Виноградов разрабатывал составы глазурей, технологические приемы и инструкции по промывке глин на месторождениях, вел испытания различных сортов топлива для обжига фарфора, составлял проекты и строил печи и горны, изобретал рецептуру красок по фарфору и решал многие смежные проблемы. Что до росписи, то Виноградов сумел получить краски десять цветов» (Там же).
Но, как и в Европе, личность изобретателя беспардонно была продана чудищу сребролюбия и тщеславия, а рабочее место мастера превратилось в тюремный каземат: «Русский фарфор был создан Виноградовым практически самостоятельно, путем научной работы и колоссального напряжения сил, ведь мастеру запрещалось покидать печи даже во время сна, что привело к его ранней смерти в возрасте тридцати восьми лет» (Там же).
Глава 4. Причудливая манифестация восточной сказки. «Шинуазри» («китайщина»)
4.1. Тонкая эстетическая мутация вещей в результате полученного извне творческого импульса
Очароваться Востоком нетрудно, надо только смотреть на мир широко открытыми глазами и иметь убежденность, что жизнь – это захватывающее приключение, написание сценария которого доверили тебе. Вот как описывал дворец государя Китая Кублай-хана венецианский путешественник Марко Поло (1254 – 1324): «Диву даешься, сколько там покоев, просторных и прекрасно устроенных, и никому на свете не выстроить и не устроить покоев лучше этих. А крыша алая, зеленая, голубая, желтая, всех цветов; тонко да искусно вылощена, блестит, как кристальная, и светится издали кругом дворца. Крыша эта, знайте, крепкая, выстроена прочно, простоит многие годы. Между первой и второй стеной, о которых я вам говорил, – луга и прекрасные деревья, и всякого рода звери; есть тут и белые олени, и зверьки с мускусом, антилопы и лани и всякие другие красивые звери, и за стенами только по дорогам, где люди ходят, их нет, а в других местах и там много красивых зверей» (из книги Марко Поло «Путешествие» // Улан-Удэ, издательство Бурятского госуниверситета, 2015 г.).
Книга Марко Поло стала первым зеленым ростком в сонной пустыне практически полной неосведомленности европейцев о странах Азии, из которого в дальнейшем вымахал дивный густой лес нежданных культурных пересечений Запада и Востока.
Встречное движение началось в первой половине XVII века, когда в результате крестьянского восстания в Китае была свергнута династия императоров Мин, а северо-восточные соседи китайцев – маньчжуры – вошли в Пекин: «Царствование трех императоров представляло собой экономическую, политическую и культурную вершину маньчжурской эпохи. Поэтому при произошедшей в XVII—XVIII веках встрече Востока и Запада Китай сыграл ключевую роль, определив формирование шинуазри в Европе, что способствовало глубокому обновлению западной культуры и искусства в целом. В искусстве Китая периода трех правлений наблюдаются те же, что на Западе, процессы трансформации – тонкой эстетической мутации вещей в результате полученного извне творческого импульса. И хотя эти стили питали друг друга, они имели отличительные особенности» (из книги Марины Неглинской «Шинуазри в Китае: цинский стиль в китайском искусстве периода трех великих правлений (1662—1795)» // Москва, издательство «Спутник+», 2012 г.)
Долгожданное рандеву двух находящихся на поистине межпланетном расстоянии культур, «их обоюдная заинтересованность, а также эффект их контакта способствовали расширению предметного мира обеих сторон. Не только отдельные технические приемы, формы и сюжеты, но и целые виды искусства были восприняты благодаря явлению шинуазри. В частности, могут быть отмечены фарфор и лаки в Европе, живопись масляными красками, гравюра на меди (офорт) и расписные эмали в Китае» (Там же).
Хотя равноправным обмен культурными кодами, пожалуй, можно было назвать с определенной натяжкой: «Уникальная ситуация, сложившаяся в годы трех правлений, обусловила стремление освоить интеллектуальные „дары“ другой цивилизации, предложенные при посредничестве католических миссионеров эпохой европейского Просвещения. Поскольку Канси {четвёртый представитель маньчжурской династии} и его преемники отчетливо понимали, что использовать предложения западного мира следовало осмотрительно, контакты с Европой в период трех правлений осуществлялись при строгом императорском контроле, а ее научно-технические достижения были восприняты как интеллектуальная дань Запада правителям Поднебесной и введены в государственный ритуал» (Там же).