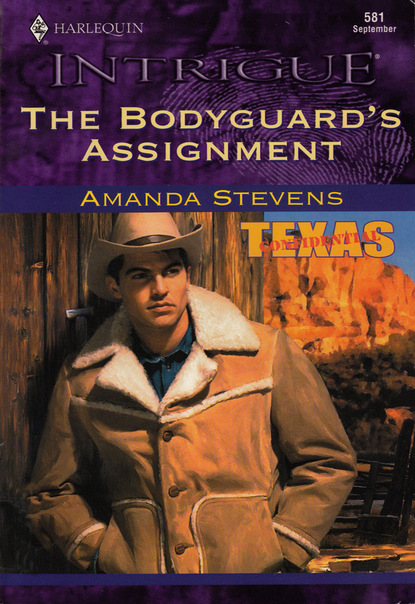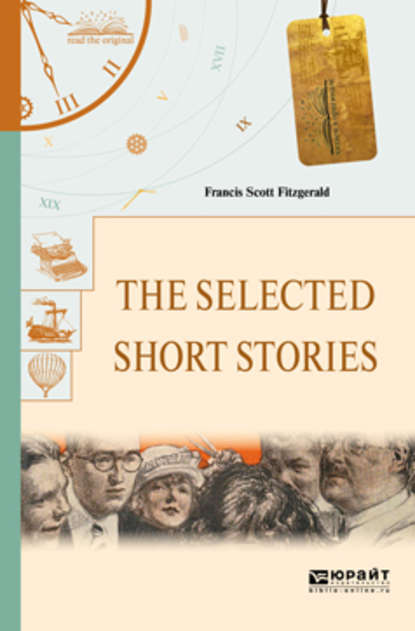Калигула: тень орла

- -
- 100%
- +

Вместо препдисловия
Работая над архивными каталогами для своей предыдущей книги Пурпур и Пепел, которая была начата с находки, и родилась из потерь,, я наткнулся на упоминание о коллекции, конфискованной преторианцами в ночь убийства Гая Цезаря. Среди кинжалов, подушек, пропитанных кровью, и протоколов допросов значился один неопознанный предмет: «свиток личных заметок, не подлежащий огласке, по приказу нового принцепса». И – пометка на полях другим почерком: «Сохранено для Себя. Не для Истории».
Следы этого свитка терялись на семнадцать столетий, пока его фрагмент, написанный на испорченной латыни с греческими вкраплениями, не всплыл в 1920-х годах в составе архива одного римского букиниста как «дневник неустановленного лица эпохи Юлиев-Клавдиев». Его сочли плохой подделкой или бредом сумасшедшего – слишком много было ярости, страха и непристойных откровений. Его продали с молотка как диковинку, и он исчез.
Мне в руки попала лишь папка с несколькими фотокопиями тех самых страниц, купленная на римском блошином рынке. Не артефакт, а его тень. Не документ, а крик из прошлого, который никто не захотел услышать.
Последние пять лет я потратил на то, чтобы этот крик обрёл голос. Я сравнивал каждый обрывок фразы с трудами Светония, Тацита, Диона Кассия. Я изучал протоколы сенатских заседаний, письма и надписи того времени. Пугающе часто безумные обвинения из «Дневника» находили своё косвенное подтверждение в сухих строчках хроник. Абсурд обретал логику. Безумие – причину.
Эта книга – не историческое исследование. Это – психологический портрет, написанный в луже крови и слез. Все диалоги, мысли и сцены – плод моей реконструкции, рождённой из того самого забытого всеми фрагмента, чью подлинность я не могу доказать, а вы – опровергнуть.
Я не историк, нашедший опровержение. Я – рассказчик, поверивший в боль одного человека. И теперь я прошу вас поверить в неё вместе со мной.
Будьте готовы. Даже вымысел, основанный на такой боли, может оставить шрам.
Филипп Ламберт
Сентябрь, 2025 г.
Глава 1: Калигула
Запись в «Свитках Друза»:
«Первое воспоминание моего брата – не лицо матери, не колыбель, а запах. Запах влажной шерсти плащей, кислого вина из фляг и окисленной крови на наконечниках пилумов. Он родился не в палатах из мрамора, а в походной палатке, и его первой колыбельной был бряцань оружия. Легионеры, эти грубые исполины в железных кожухах, дали ему имя, которое стало пророчеством, выкованным из насмешки и стали: Caligula – «Сапожок». Но даже тогда, ребенком, наблюдая за ним из-за спины няньки, я чувствовал: это не имя. Это маска. И однажды железо из подошв прорастет вверх, к сердцу».
Туман над Рейном был не молочно-белым, а грязно-серым, как пепел сожженных деревень. Он цеплялся за шерсть плащей, застывал каплями на медных заклепках щитов, заполнял легкие влажной тяжестью. Он впитывал в себя все запахи Варварской Германии: сладковатый гнилостный дух болот, едкую вонь невыделанных волчьих шкур, дым костров, в которых трещала сосновая смола, и острый, холодный аромат железа – тот самый запах, что стоял в кузнице и на поле боя.
Для шестилетнего Гая этот едкий коктейль был запахом дома.
Он сидел на скрипучем чепраке из грубой бычьей кожи, старательно натирая куском пемзы свою пару крошечных сапог. Подошвы были усеяны железными гвоздиками-стадулами, и он, как заправский ветеран, знал: каждый гвоздик должен сидеть идеально, иначе в долгом марше они вопьются в ноги, словно иглы дикобраза. Его маленькие пальцы уже были покрыты ссадинами, но боль была частью ритуала. Частью принадлежности.
– Эй, смотрите-ка, Наш Сапожок уже на посту! – прошагал мимо центурион Луций, его лицо, обветренное, как старый дуб, расплылось в ухмылке. Он был живой легендой, шрам на его щеке рассказывал историю битвы в Тевтобургском Лесу лучше любой хроники. Он шлепнул Гая по затылку с такой силой, что тот едва не грохнулся лицом в грязь. – Уже готов к триумфу? Или для тебя, щенок, это утренняя молитва?
Гай не вздрогнул, лишь стиснул зубы, чувствуя, как по щекам разливается жар. Легионеры были его семьей, их шумный, пропитанный потом, чесноком и кислым вином лагерь – его единственной детской. Он редко видел мать, Агриппину. Ее лицо, прекрасное и строгое, как у Юноны, всегда было напряжено, будто она постоянно слышала отдаленные шаги судьбы. А отец, Германик Цезарь, был богом. Не тем безмятежным мраморным божеством с Капитолия, а живым – из плоти, звона лорик и ореола славы, который витал вокруг него, как туман над Рейном. Его появление вызывало громоподобный рев «Ave!», от которого сжималось сердце и слезы подступали к горлу – не от восторга, а от непереносимого ощущения мощи, которая могла как даровать жизнь, так и отнять ее.
«Caligula». Солдатский талисман. Он улыбнулся, глядя на свои сапожки. Прозвище было теплым, как похлопывание по плечу. Но по ночам, когда он просыпался от душераздирающих криков дозорных «Qui vigilia?» или стонов раненых за стеной палатки медика, ему казалось, что «Калигула» – это маска, как у актера в сатировской драме. Маска, под которой прячется кто-то без имени. Кто – он еще не знал.
Внезапно привычный утренний шум лагеря – бряцанье посуды, ржание коней, грубый смех – сменился нарастающим гулом. Гул перешел в громкие крики, топот десятков ног. По улице между кожаными палатками пробежали солдаты, на ходу застегивая ремни кирас.
– Гай! К оружию!
Он узнал голос отца. Резкий, как звук гладиуса, вынимаемого из ножен. Мальчик сорвался с места, забыв про сапожки, и побежал, как был, в своих тонких шерстяных чулках, к группе всадников у ворот лагеря, отмеченных плюмажами из конского волоса на шлемах. Германик, в мускулистых позолоченных доспехах, сидел на вороном жеребце по кличке Аквило. Его лицо, обычно озаренное усталой добротой, сейчас было высечено из гранита. Рядом, бледный и испуганный, стоял его младший брат, Друз, крепко сжимая в руке край плаща кормилицы.
– Хочешь увидеть, как умирает слава германцев, сын? Или предпочитаешь, как твой брат, прятаться за женскими юбками? – бросил Германик, и его слова обожгли Гая сильнее, чем искры от кузнечного горна.
Гай, не говоря ни слова, подбежал к коню. Отец легко подхватил его, как охапку хвороста, и посадил перед собой на седло, обтянутое барсом. Запах конского волоса, пота и полированного металла отцовских птериг (кожаных ремней на плечах) смешался в один опьяняющий коктейль. Он видел, как Друз смотрел на него с немой мольбой и завистью.
Они выехали за вал, мимо частокола из заостренных бревен, мимо бледных лиц вспомогательных солдат-галлов. Туман здесь был реже. Впереди, за свинцовой, холодной лентой Рейна, темнела непроходимая стена Герцинского леса. Оттуда и шел тот запах, которого не было в лагере – запах чуждости, дикой свободы, смолы, дикого меда и смерти.
Недалеко от берега, на поле, усеянном кочками и обугленными пнями, лежали тела. Десятки тел. Одни – в волчьих и медвежьих шкурах, с окладистыми рыжими бородами, с голубыми узорами на бледной коже. Другие – в знакомых красных туниках и кольчугах. Это была не битва, а стычка разведок. Но смерть пахла одинаково – медной монетой под языком и опорожненными кишечниками. Воздух гудел от роя мух.
– Смотри, Гай, – голос Германика был ровным, как отточенное лезвие, режущее плоть. – Это твои враги. Херуски. Они сильны, как медведи, и свирепы, как волки. Они пьют кровь своих жертв и верят, что попадут в чертоги Вотана. Но у них нет дисциплины. Дисциплина – вот что делает легионера сталью, а этих дикарей – хворостом, который эта сталь рубит. Запомни: Рим не победить силой. Рим побеждают порядком.
Гай смотрел, широко раскрыв глаза. Он видел кровь, алым бархатом устилавшую пожухлую траву. Видел бледные, будто восковые лица. Одного из римлян, декана из вспомогательных войск, он узнал – вчера тот тайком угостил его вяленым мясом и показывал, как метать кинжал. Сейчас у него не было половины головы, и на месте лица зияла красная, кишащая мухами пещера. Гай почувствовал, как желудок подкатил к горлу, слюна наполнилась противным медным привкусом. Но он сглотнул. Плакать было нельзя. При отце – нельзя. При солдатах – тем более. Он видел, как сжимаются кулаки всадников, слышал их сдавленное дыхание. Они тоже боялись. Но они скрывали это. И он должен был научиться тому же.
Внезапно одно из «тел» в волчьей шкуре дернулось. Германце, гигант с косой, вымазанной в синей глине, раненный в живот, с нечеловеческим усилием приподнялся на локте. Его глаза, мутные от агонии, встретились с глазами Гая. В них не было ни мольбы, ни ненависти. Лишь дикая, бездонная пустота, в которой угасала жизнь. Он что-то просипел на своем гортанном наречии, и слюна, густая от крови, бессильно упала на землю в двух шагах от копыт Аквило.
Гай замер. Этот взгляд пронзил его насквозь, словно ледяная спица. Он чувствовал не страх, а жуткое, щекочущее душу любопытство. Что этот человек чувствовал в последнее мгновение? Видел ли он чертоги своих предков-берсерков? Проклинал ли он римлян? Вспоминал ли свою женщину, своего ребенка?
– Видишь? – безразличным тоном сказал Германик, и его голос прозвучал как гром средь ясного неба. – Даже поверженный зверь может плюнуть тебе в лицо. Слабость – это не рана. Слабость – это позволить ране решать, когда тебе умирать.
Центурион Луций, неспешно спешившись, подошел к германцу. Тот, собрав последние силы, попытался схватиться за лежавший рядом сломанный топор.
– Оставь, пес, – бросил Луций на ломаной германской речи. – Твоя битва окончена. Отправляйся к своим предкам.
И, не меняя выражения лица, он вонзил пугио (короткий кинжал) ему под ключицу, прямо в сердце. Раздался влажный хруст. Конвульсия, сотрясшая могучее тело. Хрип, похожий на шипение раскаленного железа в воде. И наступила тишина, оглушительная после этого звука.
– Запомни, сын, – повернул коня Германик, и его доспехи звякнули. – Никогда не оставляй врага у себя за спиной. Даже если он при смерти. Милосердие к врагу – это жестокость по отношению к своим солдатам. Понял?
– Понял, – прошептал Гай, и его собственный голос показался ему тонким и чужим, как писк мышенка.
Он сидел, прижавшись спиной к ледяным, твердым доспехам отца, и смотрел на удаляющееся поле. Запах смерти теперь был конкретным и осязаемым – он въелся в его одежду, в волосы. Ему снова стало дурно. Но он вобрал голову в плечи, выпрямил спину, подражая безупречной осанке Германика. Он был сыном своего отца. Маленьким Сапожком. Он должен быть твердым, как гвоздики в его подошвах. Он сжал руку в кулак, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь.
Вернувшись в лагерь, он не пошел к палатке, где его, наверное, ждала тревожная мать и плачущий Друз. Он пошел туда, где рождалась сила легиона – к кузнецам, в самую душную, закопченную и шумную его часть. Стоя там, под оглушительный, ритмичный аккомпанемент ударов молотов о раскаленный металл, он смотрел, как в горне пляшут синие и желтые языки пламени, а на наковальне из бесформенной крицы под искусными ударами рождается идеальный гладиус. Искры, как разъяренные светляки, летели во все стороны; одна из них, раскаленная докрасна, впилась ему в тыльную сторону ладони, обжигая кожу. Резкая боль заставила его вздрогнуть. Но он не одернул руку, не закричал. Он лишь сжал кулак еще сильнее, впиваясь взглядом в крошечный черный ожог. Боль была острой, чистой, реальной. Она выжигала тот другой, липкий, невысказанный ужас, что начал заполнять его изнутри, как вода заполняет трюм тонущего корабля. Эта боль была его. Его личным трофеем с того поля.
Вечером, когда он наконец вернулся к своим сапогам, они показались ему не просто обувью. Они были его доспехами. Его идентичностью. Его щитом и мечом в этом мире железа и крови. Он надел их и прошелся по утоптанной, перемешанной с навозом и соломой земле претория. Крошечные железные гвоздики оставляли за собой четкие, воинственные, недетские следы. Следы солдата.
Он не знал, что в этот день он сделал свой первый шаг из детства прямо в ад. Шаг в мир, где богов-отцов травят ядом в темных покоях, а не побеждают в честном бою. Где любовь измеряется лестью, а верность – страхом. Где его теплое, солдатское прозвище однажды станет именем на устах, застывших в немом ужасе, – именем, которое будут шептать в темноте, проклиная и боясь.
Но это будет потом. А пока он был просто Гай. Caligula. И его мир, пахнущий дымом, сталью и кровью, казался ему единственно возможным. И от этой мысли, странным образом, становилось спокойно. Он был частью этого механизма. Частью великой военной машины Рима.
И это было страшнее всего.
Запись в «Свитках Друза»:
«Он вернулся с того поля. Я ждал его, спрятавшись за бочкой с водой. Он был бледным, как полотно, но с сухими, горящими глазами. Он не плакал, не звал мать, не искал утешения. А потом я увидел – он разглядывал ожог на своей руке. Он смотрел на него не с болью, а с каким-то странным, торжествующим удовлетворением, будто этот маленький шрам был знаком, тайным договором с тем миром ужаса и стали, куда нам, обычным детям, вход был заказан. В тот день я впервые почувствовал не просто разницу в возрасте, а пропасть. Он ушел вперед, в царство смерти, приняв его законы, а я остался на этом берегу, в нашем хрупком мире детства – испуганный, преданный и навсегда оставшийся позади».
Глава 2: Яд для орла
Запись в «Свитках Друза» :
«Существуют яды, что убивают тело: болиголов, аконит, мышьяк. Их действие описано лекарями. Но есть яд иного свойства – он поражает не плоть, а душу, веру, саму суть человека. Первую каплю в чашу Гая влили не в Антиохии. Ее поднес сам Принцепс, мой двоюродный дед Тиберий, там, на Рейне, когда отозвал Орла с порога его величайшего триумфа. И я, семилетний дурак, думал тогда, что страшно видеть мертвого германца. Нет. Страшнее – видеть живого мертвеца в облике собственного отца».
Воздух в лагере «Калигулы» был густым и привычным, как бульон из старого котла: дым костров, в которых жарили свинину, взятые в набеге на хаттов; едкая вонь конского навоза и человеческого пота, въевшегося в шерсть плащей; сладковатый дух влажной кожи и металлической окиси. Для Гая это был аромат дома, власти, неуязвимости. Он только что вернулся из кузнечного ряда, где старый ветеран-фабриенсис, потерявший под Идиставизо два пальца, позволил ему подержать молот. На тыльной стороне его ладони, рядом со вчерашним, красовался новый, маленький багровый ожог – свежий трофей, знак принадлежности к миру силы. Он тер его шершавым подолом туники, чувствуя ясную, чистую боль, когда привычный гул лагеря – бряцанье оружия, команды центурионов, ржание коней – сменился нарастающим, чужим гулом. В нем не было ритма марша или ликования. Это был смутный гул, похожий на отдаленный ропот прибоя перед бурей, гул тревоги и подавленных голосов.
Дверь шатра претория, отмеченного знаком легиона «Минерва», распахнулась с такой силой, что полотнище из грубой бычьей кожи затрепетало, как крыло подстреленной птицы. На пороге стоял Германик. Но это был не тот Орел, чей смех был слышен через весь плац, чья осанка была вызовом самой тяжести. Его lorica segmentata, обычно сиявшая золотом и сталью, сейчас казалась серой, будто покрытой пылью поражения. Плечи, гордо расправленные под тяжестью доспехов, теперь были ссутулены, будто на них давила невидимая, страшная тяжесть. Его лицо, всегда ясное и открытое, как поле после грозы, было пепельным. А глаза… в глазах, в которых Гаю всегда виделись отблески далеких завоеванных морей, теперь плавала чужая, мутная тень, тень чего-то сломанного и мертвого.
– Отец? – сорвался робкий, тонкий голосок. Гай перестал тереть ожог.
Германик не взглянул на него. Его взгляд, остекленевший, был обращен внутрь, в ту бурю унижения и бессилия, что пожирала его изнутри. Он прошел мимо, не замечая сына, и его шаги были тяжелыми и неуверенными, будто он шел не по утоптанной земле претория, а по зыбкому песку предательства.
Гай, как завороженный, поплелся за ним, его маленькие сапоги бесшумно ступали по земле. Он видел, как легионеры, эти железные великаны, перед которыми он только вчера испытывал благоговейный трепет, отводили глаза, сжимая в бессильной ярости рукояти мечей. Он слышал, как кто-то из центурионов, старый ветеран со шрамом от тевтобургской секиры, сдавленно выругался, плюнув себе под ноги: «Juppiter Optime Maxime, damnatio memoriae на эту свору…». Агриппина, его мать, всегда несгибаемая, как стальной клинок, метнулась к мужу, схватила его за руку. Ее пальцы, тонкие и бледные, но сильные, как сталь, впились в его запястье, словно когти хищной птицы.
– Германик! Взгляни на меня! Что случилось? Говори! – ее голос, обычно холодный и властный, сейчас был пронзительным, как тот самый пугио, что вонзили в сердце германца. В нем звенела сталь и страх.
Голос Германика, когда он заговорил, был тихим, но в этой гробовой, неестественной для легионного лагеря тишине, он прозвучал громче любого боевого клича. Он был плоским, как лезвие гладиуса, затупленное о камень предательства, лишенное всякого тембра жизни.
– Легат… Гней Пизон… – начал он, и имя это прозвучало как приговор. – Прибыл курьер из Рима. От Тиберия. Сенатским указом… я отозван. С Рейна. Немедленно. Моя миссия здесь завершена.
Он сделал паузу, пытаясь сглотнуть ком в горле. Воздух с шипением вырвался из его легких.
– Мне предписано отправиться на Восток. В Сирию. «Для урегулирования дел в восточных провинциях и утверждения власти Рима». – Он горько усмехнулся, и звук этот был страшнее любого крика. – Почетная ссылка.
Агриппина отшатнулась, будто ее ударили в грудь обухом топора. Ее лицо, прекрасное и строгое, исказилось гримасой неверия и яростной, неистовой ярости. Ее пальцы впились в собственные ладони, оставляя красные полумесяцы на белой коже.
– Ссылка? – прошипела она, и в ее глазах вспыхнули знакомые Гаю огни – огни крови Юлиев, огни его прабабки, Октавии, и его бабки, Юлии, не смирившихся с участью. – Ты шутишь? Триумф? Ты стоишь на пороге величайшей победы со времен моего отца, Друза! Германцы разбиты, их союзы рушатся! Арминия мы почти…!
– Почти ничего не значит, когда в тебе видят угрозу! – перебил он ее, и в его глазах на миг вспыхнула знакомая ярость, та самая, что вела легионы в бой, что заставляла трепетать варваров. Но огонь тут же погас, уступив место горькому, холодному, убийственному пониманию. – Он боится меня, Агриппина! Тиберий боится моей славы! Моей любви легионов! Он предпочел бы видеть германцев у наших границ, чем Германика в Риме с лавровым венком на голове! Он… – Германик замолчал, его взгляд упал на Гая, стоящего в нескольких шагах, и в его глазах мелькнула такая бездонная боль, что мальчик почувствовал, как у него заходится дыхание. – Он отравил мою победу. Отравил еще до того, как она свершилась.
Гай не понимал всех слов – «политика», «интриги», «сенатский указ» были для него пустыми, лишенными смысла звуками. Но он понимал язык тел, язык взглядов, язык тишины, что повисла тяжелее свинцового неба Германики. Он видел, как сжимаются кулаки у ветеран-примипилов, этих столпов легиона, видел, как его мать, его Юнона, его несгибаемая мать, вдруг обмякла, и по ее идеально бледной щеке, вопреки всем ее правилам, всем законам достоинства, скатилась единственная, тяжелая, как свинец, слеза. Она упала на пыльную землю и впиталась в нее, оставив темное пятно. Это зрелище было страшнее любого вида мертвых тел на поле боя. Его мир, выстроенный из щитов, мечей и непоколебимой силы отца, дал трещину, и из нее сочился черный, ядовитый дым реальности, где герои бессильны, а победы крадут в тишине кабинетов.
Именно тогда Гай впервые услышал Шепот, который навсегда врезался в его память. Его издает тот самый центурион Луций, что вчера шлепнул его по затылку с отеческой грубостью. Он стоял, прислонившись к столбу с висящими на нем доспехами – его собственными, прошедшими двадцать походов, и его лицо, обветренное, как скала, было искажено гримасой такого презрения и гнева, что стало страшно.
– Смотри-ка, – его голос был низким, хриплым, предназначенным лишь для горстки окружавших его ветеранов, но Гай уловил каждое слово. – Орлу подрезали крылья. Не честью это пахнет, не славой… а ядом. Чертова Ливия, мать Тиберия, и ее змеиное отродье… Думали, со смертью старухи кончилось? Нет. Яд впитался в самые стены дворцов на Палатине. – Он с силой выдохнул воздух, плюнув сквозь стиснутые зубы. – Предали. Предали, как в Тевтобурге. Только здесь враг не с секирой, а в тоге.
Яд.
Это слово Гай понял сразу. Оно было простым и страшным, как удар ножом. Оно было того же порядка, что и «смерть», «кровь», «боль». Оно вонзилось в него острее, чем искра от горна, обжигая изнутри. Он посмотрел на отца. Тот стоял, глядя в пустоту за валом лагеря, туда, где темнел Герцинский лес – его недостижимая цель, его украденный триумф. И в его позе была не просто усталость, а сломленность, растоптанное достоинство. И Гай вдруг с ужасающей, леденящей душу ясностью осознал: есть враги, которых нельзя победить в честном бою. Есть сила, против которой бессильны даже самые острые мечи и самые дисциплинированные легионы. Сила, которая бьет из-за угла, невидимая, коварная и смертельная, сила, что может отравить сам воздух, которым ты дышишь.
Он не заплакал. Он не побежал к матери. Он стоял на месте, чувствуя, как что-то твердое, холодное и тяжелое, как слиток свинца, образуется внутри него, в самой глубине, там, где еще вчера теплилось детство. Он посмотрел на свои сапоги. Крошечные железные гвоздики-стадулы, о которые он точил пемзу. Они могли выдержать долгий марш, могли растоптать врага, но были бессильны против того, что только что произошло. Его доспехи оказались бутафорией. Его идентичность – игрой. Его отец – смертным, раненым зверем в клетке интриг.
В тот день Гай Цезарь Германик сделал свой второй, решающий шаг. Если первый шаг, вчерашний, был шагом в мир смерти и мужества, то этот был шагом в мир предательства, страха и яда. Он еще не знал, что яд, о котором шептались солдаты, был метафорой. Но он уже чувствовал его вкус – вкус бессилия, несправедливости и растоптанной веры – на своем языке. И этот вкус был горче самой горькой полыни, острее самого едкого дыма. Он впитывал этот яд всей своей душой, и где-то в глубине его сознания, в том месте, куда не доходил свет, уже начинала формироваться клятва – никогда больше не быть жертвой. Никогда больше не быть тем, кому подрезают крылья.
Запись в «Свитках Друза»:
«Я наблюдал, прижавшись к грубой древесине колесницы, и видел все. Видел, как сгорбился мой отец, будто на него надели невидимые цепи. Видел ту единственную, страшную слезу матери – знак того, что рухнули все ее надежды. И видел его. Гая. Он стоял, не двигаясь, с лицом, на котором не было ни слез, ни страха, лишь каменное, недетское, абсолютное понимание. И я испугался. Испугался не известия о ссылке, не гнева легионеров. Я испугался его. В тот миг он показался мне не мальчиком, а пустым, холодным сосудом, в который только что налили нечто черное, ужасное и вечное. Я понял, что наш общий мир, мир детей Германики, рассыпался в прах. И мы остались по разные стороны образовавшейся пропасти. Он – на той, где правят яд и сталь. Я – на этой, где остались лишь слезы и страх».
Глава 3: Школа Тиберия
«Свиток Друза, второй год на Капри»
Если Рейн был адом открытым, где боль была видна, как шрам на лице, то Капри – это ад позолоченный. Лаборатория Тиберия. Здесь не ломают кости. Здесь растворяют волю. Мой брат стал его главным реактивом.
Вилла Юпитера на Капри не была дворцом. Это был архитектурный кошмар паранойи, высеченный на краю обрыва. Белоснежные стены, ослеплявшие на солнце, скрывали лабиринт потайных ходов и залов с двойным дном, где стены могли сдвигаться по воле принцепса. Воздух, густой от запаха морской соли, цветущих олеандров и дорогих сирийских благовоний, всегда нес в себе едва уловимую ноту разложения – не пищи, но душ.
Нас с Гаем поместили в смежных кубикулах в восточном крыле. Комнаты были аскетичны: кровать, сундук, умывальник. Единственным окном был узкий проем, выходивший не на бездну моря, а во внутренний дворик с фонтаном. Фонтан изображал Пана, преследующего нимфу; его каменные пальцы вечно замерли в сантиметре от ее бедра. Это была идеальная аллегория нашей жизни: вечное, мучительное «почти».
Наша роль была определена с первого дня. Мы не были внуками принцепса. Мы были обес – заложниками, живыми трофеями, доказательством того, что ветвь Германика сломлена и поставлена на службу старому Волку с Палатина. Утром нас мучили риторикой и греческими стихами под присмотром унылого педагога Апелла. Но истинная наука начиналась после заката.