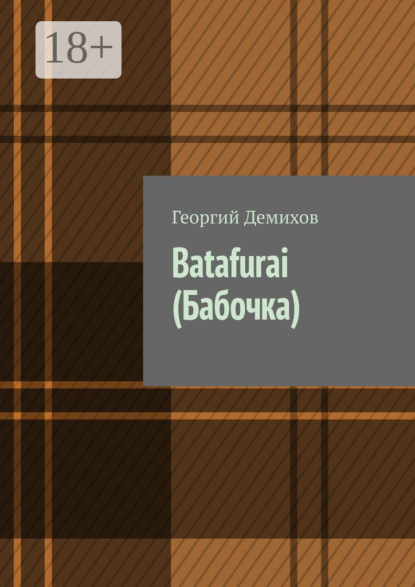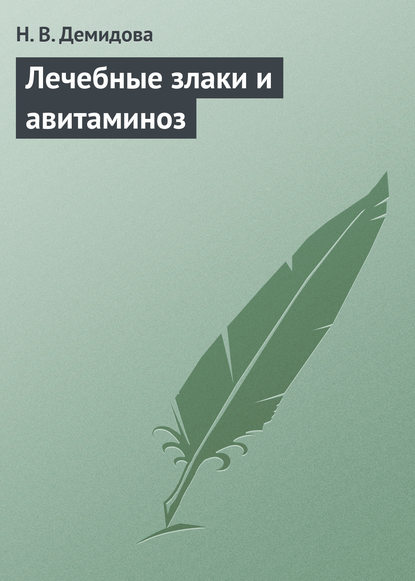- -
- 100%
- +

Глава 1
В изложениях событий, столь же древних, сколь и странных,
вряд ли можно ждать открытий и разгадок, столь желанных.
Так и в это вот сказанье мною вписаны догадки;
но тому есть оправданье – слишком летописи кратки.
Лишь клочки преданий, честно донесённых летописцем, —
вот и всё, что нам известно по скупых страниц крупицам, —
про грехи и добродетель, о сраженьях и походах, —
правда, есть еще свидетель, что лежит в днепровских водах.
Где порога дно полого, где ладьям уже не плавать —
там вливается протока в заболоченную заводь.
Там, в ложбине неглубокой, он лежит на дне унылом,
оплетён речной осокой, занесён тягучим илом.
Сотни лет средь вод стоячих он в могиле спит безвестной,
где очей его незрячих не коснётся луч небесный.
Взор песками источённых грозных глаз буравит воду,
и с усов позолочённых время смыло позолоту;
с головы посеребрённой стерт веками слой металла,
и тяжелый дуб морёный зелень тины пропитала.
Хмурый бог веков глубинных, деревянный этот идол
видел Русь времен былинных… очень многое он видел.
Он над киевской Горою возвышался, величавый,
и воспет был той порою, и овеян ратной славой.
Там внимал он звонким струнам, гуслей складным переборам…
для одних он был Перуном, для других он звался Тором.
Взором хищным ястребиным озирал он Русь с вершины,
полновластным господином, богом княжеской дружины,
и любой, кто спорил с Тором, был нещадно перемолот
русским войском, над которым трепетал на стягах молот.
Приносил в боях удачу он дружинному сословью
и взымал за это сдачу человеческою кровью.
Только всё осталось в прошлом после страшного паденья,
и кумир, вдруг ставший ложным, лёг в русалочьи владенья.
С той поры из тьмы кромешной, он, незрячими очами,
словно древний дух мятежный, смотрит лунными ночами,
и, быть может, вспоминает дни давно минувшей славы, —
те, что в книгах оставляют незаполненными главы.
Но лежит он, оставаясь позабытым и безвестным, —
лишь камыш стоит, качаясь, над пустынным этим местом.
А над ним, в весёлом беге, зимы с вёснами мелькают,
и текут куда-то реки…
Всё куда-то утекает.
Глава 2
Святослав мрачнее тучи – отвернулись, видно, боги!
Что ж сидит он, князь могучий, в Доростоле, как в берлоге?
Он пришёл сюда затем ли, чтобы, планы все сминая,
сдать врагам почти все земли да застрять в низах Дуная?
А виной всему измены – местных козни да преграды!
Бесполезны рвы и стены, коль болгары нам не рады!
Им, как братьям, доверяют, избавляют их от гнёта,
а они же отворяют перед греками ворота!
Хоть не раз уже страдали от ромейского разбоя,
всё равно уж сколько сдали городов своих без боя!
И покуда мы удары катафрактов держим в поле,
за спиной у нас болгары строят ковы в Доростоле!
Уж мы их не обижали, не теснили их ни разу,
а они от нас бежали по подкопанному лазу!
До чего ж народец склизкий! Раз уже подкопы роют,
то, когда придёт Цимисхий, – всё опять ему откроют!
Только где искать измену – змей ползучих ядовитых?
Не подвергнуть ли нам плену самых знатных-родовитых?
Коль всегда измена зреет в теремах, а не в лачугах,
то и надо в них скорее засылать гостей в кольчугах!
Так размыслив, среди ночи князь людей отправил ратных,
чтоб явить пред княжьи очи всех богатых, видных, знатных.
И к утру болгар несчастных ко двору согнали скопом,
дабы выявить причастных к обнаруженным подкопам.
Допросить бы их, отсеяв через дыбу и икону
невиновных, а злодеев осудить бы по закону.
Да когда ж теперь судиться? Византийцы слишком близко —
ходу им – одна седмица, сдан Преславец, Дина, Плиска!
Вот сидят бояре с князем на совете на дружинном
и решают, быть ли казням и каким судить аршином.
И, помыслив, так решили: «Нам не вызнать, кто изменник;
но, кого мы устрашили, брать не смеют вражьих денег.
Раз попытки взять их лаской оборачивались прахом,
вразумим другой подсказкой – не любовью, значит, страхом!
Греки им – единоверцы, значит, все они в ответе!
Раз таят худое в сердце, то ответит – каждый третий!»
Меж дружинников удалых был один варяжский воин,
богатырских сил немалых, белокур, высок и строен,
и лицом пригож и светел, – звался тот варяг Оттором.
Святослав его приметил, обводя дружину взором.
И пред всеми князь к Оттору молвил ласковое слово:
«Одному тебе лишь впору рассудить болгар толково!
Мне тебя послали боги— ты ходил со мной в походы
на хазары, и касоги, и на прочие народы.
На совете и на вече всех речей твоя виднее,
и среди кровавой сечи нет руки твоей вернее!
И в делах твои удачи обросли уже молвою, —
Один с Тором, не иначе, близко знаются с тобою!
Потому не будет спора, кто займётся их судьбою, —
раз уж носишь имя Тора – то и быть тебе судьёю!
И пускай сам Тор накажет этих пасынков церковных,
и твоей рукой укажет Громовержец на виновных!»
Тут же выделили крепких двести отроков болгарских,
нацарапали на щепках имена детей боярских
да в котле перемесили, и, с положенным обрядом,
перед Тором поместили и покрыли белым платом.
Так, отринувши науку выявления отребий,
в котелок засунув руку, потянул Оттор их жребий.
Тут же взяли обречённых – семь десятков из двух сотен,
хоть ни в чем не уличённых, жребий всё ж бесповоротен!
И свели их на задворок, не сказав им цель отбора,
где недавно на пригорок был воздвигнут идол Тора.
А Оттора, только вычет завершить едва успел он, —
снова князь пред очи кличет и велит заняться делом:
«Что ж, мой друг, бери секиру, раз уж ты решил их участь.
Я оплачиваю виру! И – чтоб быстро и не мучась!»
Князь велит – ему виднее! Взял Оттор топор не споря —
кровь варяга холоднее, чем вода в Варяжском море.
И казнил их на пенёчке, заперев сначала в терем,
и велев поодиночке на допрос идти за дверь им.
Слуги князя тем болгарам клали головы на плаху,
а Оттор одним ударом отсекал их с плеч с размаху.
Так, без тяжб и слёз напрасных, в исполненье приговора,
были семьдесят несчастных казнены рукой Оттора.
Тихо стало в Доростоле, да вознёсся в небо вскоре
вопль отчаянья и боли матерей, сраженных горем.
И теперь весь город в пришлых видел лишь врагов заклятых,
хоть пеняли те – так вышло! Вы, мол, сами виноваты!
Будет вам теперь наука, так что больше – не проказим!
И чтоб впредь от вас – ни звука! Шутки плохи с русским князем!
Но стыдились забиравших со двора родных убитых,
перед Тором остывавших, покрывалами покрытых.
Были живы лишь недавно, да вот выпало ж несчастье —
так судьба порой нежданно всё решает в одночасье!
Тел ещё не разобрали всех, казнённых столь жестоко,
а уж тучи понагнали ветры с юга да с востока —
то имперские колонны подходили с юга быстро,
да с востока их дромоны заползали в устье Истра.
Глава 3
За три дня до этих казней прискакал, чуть свет, посланец
с вестью, коей нет ужасней – пал пред греками Преславец!
Да принёс о войске вести – мало кто остались живы,
человек прорвалось двести из Свенхельдовой дружины.
Отступивших в кои веки, искушённых в деле ратном —
всех при штурме смяли греки перевесом многократным.
А спустя от казни сутки люди прибыли Свенхельда.
Вид они имели жуткий— как смогли дойти досель-то!
И тогда дружина снова собралась со Святославом,
и пред нею молвил слово в размышлении он здравом,
и держал такие речи: «Не уйти нам в путь обратный, —
ныне Русь от нас далече, печенеги с нами ратны.
Мы в челнах бы отступили, только плохо дело, други!
Реку нам загородили огнедышащие струги.
Да и в городе без снеди долго нам не продержаться.
Выход есть у нас последний – выйти в поле да сражаться!
Крепко встанем же стеною, а придётся – ляжем в землю!
Встаньте ж рядом, кто со мною – сраму мёртвые не емлют!
Впрочем, робких не держу я – могут в ночь уйти лесами.
Если ж голову сложу я, о своих – заботьтесь сами!»
Тут же всё и порешили – гридь, и старшая дружина,
и дружинники меньшие – и ответили едино:
«До конца с тобою, княже! Доля князя – наша тоже!
Голова твоя где ляжет, там и мы свои все сложим!»
К ночи серыми тенями подошли полки ромеев,
бивуачными огнями горизонт в ночи усеяв.
Было их число огромно, степь светла, и вид их страшен,
и дозорные, недрёмно, до утра следили с башен,
как, в движеньях непрестанных, стены брали в окруженье,
и всю ночь в обеих станах все готовились к сраженью.
А когда взошло светило над дунайскою равниной,
но ещё не иссушило росы с пажити целинной,
рать за стены потянулась, растекаясь ручейками,
и привычно развернулась в поле стройными полками.
Самых старших, закалённых, по краям распределили,
и стеной щитов червлёных поле перегородили.
Русы, чудины, славяне, строй сомкнув, в броне доспехов,
наблюдали в ожиданье приближающихся греков,
как сползала вниз по склону византийская фаланга
и как конная колонна расходилась на два фланга;
как, готовя строй в атаку, рать замедлила движенье,
а затем войска, по знаку, разом начали сближенье.
Вот фаланга ощерилась рядом выставленных копий,
и на центр навалилась всею массою циклопьей,
и схлестнулась с русской лавой, стрел разящих роем кроя,
и за миг страдой кровавой закипело поле боя.
В упоенье злом и диком, в нарастающем накале,
разорвался воздух криком, свистом стрел и лязгом стали.
Тут бы молодцам раздолье, кабы только не угроза,
что нависла с края поля, обтекая фланги косо.
Там кометой клиновидной поднималась пыль густая,
дрожь земли и гул копытный приближались, нарастая.
Фланги сжались комом плотным, изготовившись удало
отражать в строю пехотном тяжесть конного удара.
Если лавою стальною атакуют катафракты —
тут уж строй держи стеною, если сам себе не враг ты!
Тут уж зря не лезь из кожи, а в бою, тяжёлом, долгом,
береги себя, как можешь, и расходуй силы с толком.
Не надейся лишь на удаль посреди жестокой свалки —
силы вмиг уйдут на убыль без уменья и закалки.
Если кто изнемогает, тяжелеет бой для прочих —
вновь щиты они смыкают – ряд становится короче.
Если ж строй щитов разрушен, то тогда с боков прикройся,
на рожон не лезь, а лучше отступи и снова стройся.
Так бывает – в лютой сече уцелеть боец не чает,
а ранений и увечий и совсем не замечает.
Так вести себя негоже – победит не тот, кто злее,
ну а тот, чей разум тверже, будет к вечеру целее.
Сохраняя строй сплочённый, оба фланга содрогнулись,
клин расплющивая конный, и назад слегка прогнулись.
Стойко русская пехота держит фланги, ведь недаром
здесь доверена работа самым опытным и старым!
Разогнав коней в запале, византийские герои
первый ряд щитов взломали и… завязли в пешем строе.
И угас накал атаки, и рассыпалась лавина…
и в теченье часа драки их осталась половина.
И теперь уж ясно стало – не прорваться грекам с тыла, —
в этой битве всё решала не стратегия, а сила.
Бой кипел по всей равнине беспощадный и кровавый,
теша кровь лихой дружине молодецкою забавой.
Взять бы верх ещё при этом над противной стороною,
да волна, вздымаясь, следом встречной гасится волною,
и в атаках безуспешных войско русское редеет,
и напор гоплитов пеших всё заметнее слабеет.
Со времён осады Трои, от побед, былых и славных,
в наступленье в пешем строе не бывало грекам равных,
и противников достойных скольких видели с изнанки!
Что ж зияют бреши в стройных построениях фаланги?
Хоть и скована на совесть дисциплиной и присягой, —
меркнет эллинская доблесть в споре с русскою отвагой,
и, телами кроя склоны, гибнут храбрые пеласги,
где проклятия и стоны тонут в топоте и лязге,
и мольбы их в небе тают, где, быть может, с горней шири
к ним архангелы слетают меж кружащихся валькирий.
Мышцы стонут от нагрузки – пятый час идёт сраженье,
а в попытках сдвинуть русских – никакого продвиженья!
Как бы ни был враг прославлен, всё ж признал своё бессилье —
центр так и не продавлен, и удар сдержали крылья.
Слишком явной стала тщетность и бесплодность наступленья,
боевых потерь заметность, очевидность утомленья.
Кто изведал ярость Тора и, по счастью, не в могиле —
не захочет уж повтора, вот и греки отступили.
Да и русы, силы взвесив, уж атак не повторяли —
на сегодня хватит месив, – слишком многих потеряли!
Слишком стороны устали после битвы, долгой, трудной,
и, в порядке, покидали поле славы обоюдной,
где, затерян между павших, волей неба кормом свежим
для ворон и галок ставших, и Оттор лежал, повержен.
Оттого ль в поход последний провожали, так рыдая,
сын, мальчонка малолетний, и супруга молодая?
Из-за этого ли плача, от работы ли заплечной
перестала вдруг удача быть, как прежде, бесконечной?
То ль за мучеников знатных от небес ему воздалось,
то ли звёзд благоприятных благосклонность исчерпалась.
Глава 4
С описаний драм давнишних за века облезли краски —
в виде строчек скучных книжных быль проигрывает сказке;
а в десятый век разбойный время было неспокойным —
в этот век стихали войны, чтоб дать место новым войнам.
В мире диком и кровавом как могли, хитрили греки, —
василевс со Святославом заключили мир навеки.
Из сражений не вылазя, по нужде, не по желанью,
от воинственного князя откупились греки данью.
И на Русь, с добычей жирной, Святослав ушёл весною,
с невеликою дружиной, но с великою казною.
Да не вывез он той платы из потерянного царства —
жертвой пал у переката печенежского коварства.
Где пороги точат воды, там ждала его засада…
так закончились походы русских ратей до Царьграда;
и обрёл свой дом в Валгалле Святослав, воитель смелый,
тот, которого не брали ни топор, ни меч, ни стрелы.
И, прознав о том, соседи все вздохнули с облегченьем,
порешив, что вести эти есть конец их злоключеньям.
А меж тем в колонне пленных, с уходящими войсками,
наш Оттор, меж спин согбенных, шёл с обвитыми руками.
Греки раненых собрали в том бою при Доростоле
и живым его застали, обойдя под вечер поле;
хоть удар ромейской стали оглушил и обездвижил,
добивать его не стали – и Оттор в сраженье выжил.
Вместе с ним в колонне были и варяги, и славяне —
греки пленных утаили, чтоб платить поменьше дани.
Вот и выпало тем пленным провести свой век в неволе,
привыкая к переменам, к незавидной новой роли.
Но Оттор в плену, на счастье, не был сослан на галеры,
и не сгинул в одночасье от какой-нибудь холеры,
и в невольничьем бараке не угас душой и телом,
и зарезан не был в драке, как того порой хотел он.
Был отправлен он в столицу, ибо выглядел не старым,
чтоб таскать в мешках пшеницу меж амбаром и базаром.
Были всё ж ещё удачи, но случилось много хуже,
и страдать пришлось иначе – тьма его объяла душу!
Он, зарывшись в одеяле, ночью видеть стал кошмары:
мертвецы над ним стояли – им казнённые болгары.
С обагрёнными плечами, все в крови из ран на шеях,
и дрожал Оттор ночами, как огня, страшась в душе их,
и винил за эти муки бога, чьё носил он имя,
и отсечь готов был руки за дела, что делал ими.
Много крови в жарких битвах было пролито Оттором,
но убийство беззащитных – это было перебором!
И теперь, как в стенах спёртых, – целый день тоска на сердце,
и от взглядов этих мёртвых никуда уже не деться!
И, со страхом ожидая приближающейся ночи,
клял себя он так, рыдая и в тоске потупив очи:
«И зачем же я погнался за сомнительною честью!
В палачи, глупец, подался, соблазнившись княжьей лестью!
Как же знать я мог, что вскоре не сойдёт мне это даром —
я ль повинен в этом горе, что пришло со мной к болгарам?
С долей венчаны ль такою, чтобы рано умереть им,
но зачем – моей рукою? Как же жить теперь мне с этим?»
Так, в отчаянье бессильном, жил он узником, застрявшим
между миром замогильным и жестоким миром нашим.
Превратился в образ слабый прежде грозного варяга —
до ничтожности от славы оказалось лишь полшага!
Как бы ни был мир ужасен и жесток порой снаружи,
но, когда внутри ты грязен, – не бывает муки хуже!
Но однажды, среди ночи, оказали гости милость —
пытку словно бы отсрочив, вся толпа их удалилась.
И, ворочаясь без цели после их отлучки странной,
он увидел на постели крест нательный оловянный.
Он узнал его – такие видел он на обречённых, —
штучки те недорогие с шей слетали рассечённых.
Крестик бережно он поднял – хоть его он озадачил,
но глупцом он не был, понял, что подарок этот значил.
Прежде слышал он про Бога, что распят был и изранен,
знал о Нём Оттор немного, – слабый бог ему был странен,
но теперь он сам, в несчастье, стал таким же, ощущая
в Чьей, на самом деле, власти этот мир спасать, прощая;
в Чьей любви к таким же, малым, нету места укоризне,
хоть и сам себя считал он меньше всех достойным жизни.
Стали, в бытности походной, в повседневной круговерти,
сердце жёстким, кровь холодной на полях войны и смерти;
закалённый поневоле, ко всему он был привычен,
и, к своей привыкший боли, стал к чужой он безразличен.
По такой простой причине он, к насилию причастный,
оказался вдруг в пучине безнадёжной и ужасной.
Но, невесть какая сила, почему-то, в этом теле
до сих пор его хранила для какой-то странной цели.
Может быть, она же между днями жизни этой серой
принесла ему надежду, что, окрепнув, станет верой.
Так бывает – вспышкой быстрой, только миг она получит,
проскользнёт небесной искрой, и… забрезжит в сердце лучик,
и растопит, разрастаясь, дух, в неволе измождённый,
что воспрянет, пробуждаясь, словно заново рождённый.
Словно выход из темницы, брешь, пробитая в заслоне, —
что ещё могло б сравниться с этим крестиком в ладони?!
Ключ к неведомым началам, к тайным истинам и смыслам —
всё, что в мире есть, вмещал он, придавая ясность мыслям,
всё сходилось, сочетаясь в этом крохотном наследстве,
и рыдал он, сотрясаясь, как не плакал даже в детстве.
А потом он спал блаженно весь остаток этой ночи —
в первый раз с начала плена сон так прочен был и сочен,
и во снах, таких невинных, не людей он видел мёртвых,
а днепровские равнины и селения во фьордах.
А назавтра он работал, уж вполне приняв решенье,
и, дела окончив, подал о крещении прошенье.
И тогда обряд священный совершён был над Оттором,
и из храма, окрещенный, вышел он уж Феодором.
В церкви греческой поместной грех убийства отпустили, —
всё простил Отец Небесный… да болгары не простили!
Всё равно к нему являлись и ночами, как и прежде,
над Оттором возвышались в окровавленной одежде.
Но для греков, кто крещёный, будь он даже хоть изменник,
равнозначно, что прощёный и почти уже не пленник.
Русских, бившихся геройски, потому-то и пленили,
что в своём имперском войске слишком дорого ценили.
А потом, крестив их, с ходу, в знак прощения и дружбы,
предлагали дать свободу за семь лет военной службы.
Не бывает худшей доли, как известно и доныне,
чем рождённому на воле быть пленённым на чужбине!
Потому исходом лучшим счёл он выкуп ратным делом —
лишь войне он был обучен, а другого не умел он.
И Оттор, крещёный пленный, только сбросить рабский гуж бы,
заключил контракт военный за свободу после службы.
Жизнь как будто бы сложилась, потекла привычным руслом,
не вернулась только живость, – был он замкнутым и грустным.
Среди моря, в трюме судна, на равнинах финикийских,
в гарнизоне Трапезунда и в песках пустынь сирийских —
всюду, где бы ни служил он, видел юношей он знатных,
в смертном рубище унылом, всех в крови и в трупных пятнах.
Непрестанно вспоминая о давнишнем преступленье,
всё молился он, стеная и моля об искупленье,
и искал в боях он смерти, чтобы разом всё решилось,
да, видать, на этом свете даже смерть его страшилась.
С ней знаком он был, но как-то сам он жизни не лишился;
время шло, и срок контракта у Оттора завершился.
Много видел он за годы, улетевшие на ветер,
но желал он лишь свободы, чтоб увидеть Русь и север.
По жене скучал и сыну, дни считая и недели
и тая свою кручину… так семь лет и пролетели.
И, с другими молодцами, в переделках стольких выжив,
отбыл он домой с купцами из Царьграда в стольный Киев.
Глава 5
Десять лет прошли в скитаньях по дорогам на Балканах,
и в диковинных и дальних истомлённых зноем странах.
Но Отторовы дороги ни петляли сколь бы долго,
а вернулись всё ж в итоге в Киев князя Ярополка.
Что средь братьев старшим сыном приходился Святославу
и, в порядке триедином, стол наследовал по праву.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.