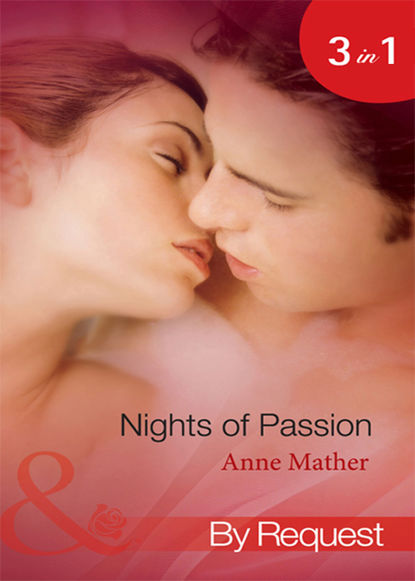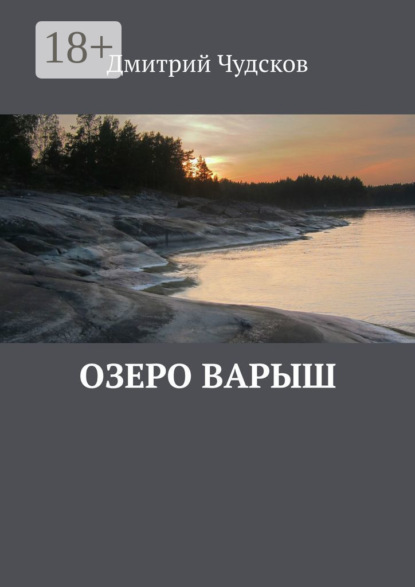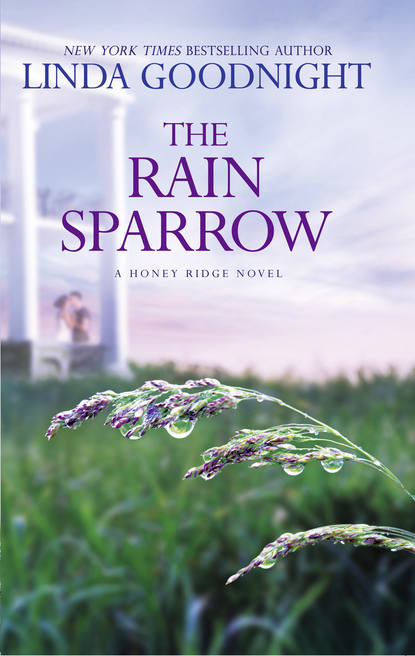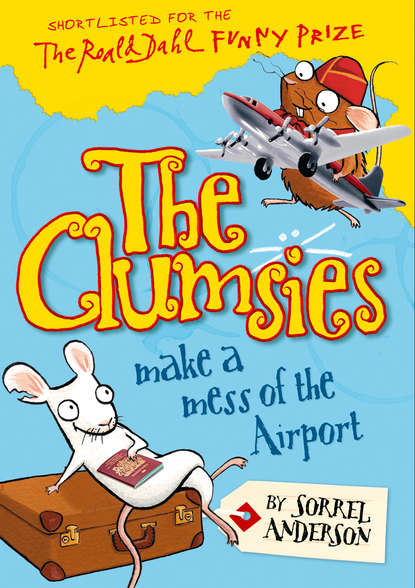Дао Иисуса, или Евангелие от Лао-Цзы. Цитаты из текстов христианской и даосской традиций (с комментариями)
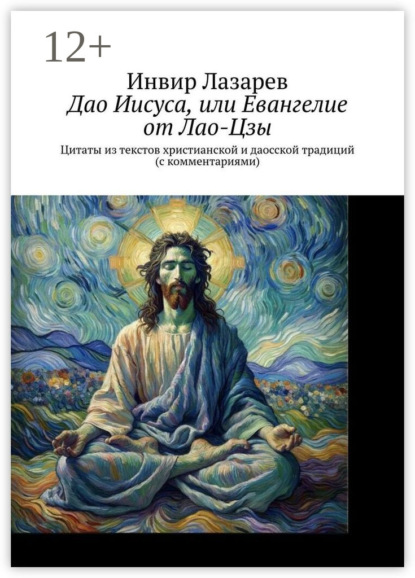
- -
- 100%
- +

© Инвир Лазарев, 2025
ISBN 978-5-0065-4010-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«ДАО ИИСУСА»
или «Евангелие от Лао-ЦЗЫ»
цитаты из текстовхристианской и даосской традиций(с комментариями)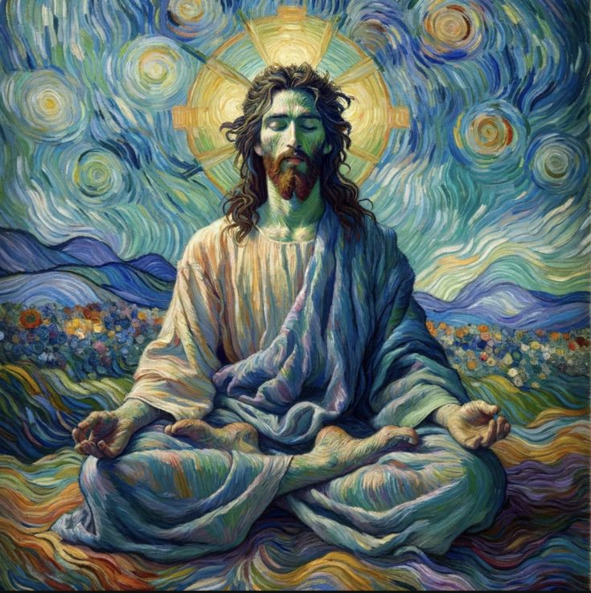
+++
Содержание
Предисловие – 41. Мистический опыт – 272. Слова мудрости – 483. Простота – 744. Смирение – 1015. Нестяжательство – 1186. Любовь – 1317. Лицемерие – 1508. Насилие – 1669. Карма и реинкарнация – 17510. Бессмертие – 182Послесловие-200Предисловие
Разные пути – Схожие изречения
Трудно себе представить более непохожие жизни, чем у Лао-цзы и Иисуса. Несмотря на то, что наши знания о этих духовных учителях человечества в лучшем случае ограничены рамками взглядов и трудов теологов, всё указывает на два поразительно разных жизненных пути. Иисус, как известно, родился в Палестине две тысячи лет назад в эпоху Римской империи, начал своё служение в возрасте около тридцати лет, проповедовал послание любви и социальной справедливости около трёх лет и был предан мученической смерти римлянами. За пять столетий до прихода в наш мир Иисуса, Лао-цзы, согласно легенде, жил простой, тихой жизнью хранителя императорских архивов в княжестве Кусянь на Западе Китая. Сведений о человеке Лао-Цзы немного. Большинство версий сходится на том, что он был старшим современником Конфуция, который якобы оставил рассказ о их встрече: «Птицы, я знаю, могут летать, рыбы, я знаю, могут плавать, звери, я знаю, могут бегать. Бегающих можно изловить в силок, плавающих – вытащить леской, летающих – сбить привязной стрелой. Как же изловить дракона, мне неведомо. На ветре и облаке он возносится на Небо. Сегодня я был у Лао-Цзы, и он походит на дракона».
Недовольный течением общественной и политической жизни Лао-Цзы оставляет службу и становится отшельником. Где-то в середине или конце своей жизни мудрец, оседлав буйвола, покидает Китай. Он отправляется на запад в сторону Тибета, в поисках иной религиозной действительности. Вот как описываются эти события в сказании. К пограничной заставе Гуань на западной границе Китая подъезжает человек. Он восседает на чёрном буйволе, его взор устремлён в пустоту. Воины, стоящие поодаль, при виде него начинают перешёптываться. Они не знают, как им реагировать на его появление. Но вот появляется Ин-Ки, начальник пограничной заставы. К удивлению воинов, он почтительно склоняется перед незнакомцем и просит его пройти внутрь.
– Вы покидаете Китай, учитель? – спрашивает Ин-Ки. – Напишите книгу для меня перед тем, как скроетесь.
И человек соглашается. Через три дня старец возвращается с книжицей (не более пяти тысяч иероглифов). Это трактат «Дао дэ Цзин», в котором мудрец разъясняет смысл пути и добродетели. Затем он проследовал через пограничные ворота и больше о нём никто не слышал.
Какой поразительный контраст этих двух судеб!
Иисус, этот вдохновенный пророк, был социальным реформатором. Он героически принял мученическую смерть в расцвете лет, дабы преобразовать общество и, возможно, всё человечество. Лао-цзы, по-видимому, считал, что условия «цивилизованной» жизни уже настолько испортили людей, что проповедовать напрямую «человечность» стало бесполезно. За всю свою долгую жизнь (около восьмидесяти лет) он не собрал последователей, не основал церкви, жил тихо и незаметно. В свои последние годы он окончательно отвернулся от общества, посвятив всего себя созерцанию.
Тем не менее, даже при явном несходстве этих двух биографий, проницательный взгляд заметит некоторые параллели – какими бы незначительными они ни казались. Многие исследователи вообще сомневаются в реальности существования этих двух учителей, утверждая, что оба они являются легендарными, мифологическими фигурами, чьи слова являются более поздними компиляциями целого ряда авторов и комментаторов. Так или иначе, но наследие Иисуса и Лао-цзы по большей части носит целостный характер. Учёные, признающие историчность этих выдающихся личностей, считают, что миф о них возник позже в рамках мировых религий. В случае Иисуса – это доктрины о его предсуществовании, непорочном зачатии и Троице. В случае с Лао-цзы легенды повествуют о его чудесном рождении от звезды. Мать якобы носила его несколько десятков лет и родила стариком – откуда и имя его, «Старый ребёнок». Такое богатое мифотворчество свидетельствуют о власти двух мудрецов над умами их последователей, своеобразии их характеров и глубине их учений. На более реалистичном уровне можно констатировать, что оба мастера проявляли глубокую склонность к анонимности и простоте; оба оставались в значительной степени свободными от профанного мира со всеми его социальными условностями и заботами. Похоже, что Иисус и Лао-цзы были простыми, скромными людьми, но в то же время личностями, исполненными глубокой тайны и внутреннего света. Неизбежно возникает вопрос, как послания в их учениях могли быть настолько похожими при столь разительном отличии жизненного опыта? Иисус вырос в относительно стабильном социуме римского мира, в то время как Лао-цзы пережил «период соперничества государств», в котором Китай почти непрерывно терзали войны и социальные потрясения. Тем не менее, оба они осуждали любое насилие. Противоположный опыт – идентичные выводы. Уже в начале XIX века некоторые католические миссионеры начали замечать поразительное сходство между трактатом Лао-Цзы и Священным Писанием. Они даже утверждали, что в «Дао дэ Цзин» имеется намёк на Святую Троицу.
Рискну предположить, что ключ кроется в универсальности самой Истины. Иисус и Лао-цзы являют собой образец пламенного искателя истины, сочетающего в себе типаж визионера-мистика и революционера, подрывающего закостенелые общественные устои. Глубокое понимание людей, общества и самой реальности привело их к выражению универсальной и всеобъемлющей истины о том, что значит быть человеком. Что же, Истина одна, а путей к Ней много.
Письменные источники
Невзирая на то, что Иисуса и Лао-цзы разделяют время и пространство, а также на их принадлежность к совершенно независимы друг от друга культурным традициям, в их учениях обнаруживается удивительное сродство. Данная книга представляет собой сборник резонирующих сквозь время и пространство цитат из даосских и христианских писаний, почти все из которых приписываются самим основателям двух традиций, Лао-цзы и Иисусу. Некоторые отрывки взяты из Ветхого Завета, к которому обращался Иисус, расширяя его понимание, а также из посланий Святого Павла. В определённые моменты, читая изречения этих учителей, у меня возникало странное ощущение, что я имею дело с «Дао Иисуса» или «Евангелием от Лао-цзы». «Как это возможно?» – спросите вы. Читая эти древние тексты мы словно бы по какому-то божественному промыслу начинаем постигать тайну бытия. Культурные барьеры и концептуальные противоречия в наших умах сокрушаются опытом подлинного прозрения, задокументированном в христианской и даосской традициях. То, что важно, без усилий выходит на передний план, а всё наносное разоблачается и рассеивается без следа. Наше внимание обращается не на различия, а на общность двух учений и нам является единство, сокрытое за многообразием.
Несмотря на столь разное происхождение Иисуса и Лао-цзы, а также принадлежность к таким непохожим по форме духовным традициям, изречения из их учений перекликаются по множеству тем. Оба мудреца имели видение того безымянного высшего источника, что безраздельно владычествует как в самых высоких духовных сферах, так и в повседневности нашего человеческого бытия. Этот живой опыт повлиял на установление правил жизни для их последователей. Основными благодетелями в обоих традициях являются смирение, кротость и честность; стяжательство, несправедливость, неравенство, лицемерие и насилие – должны быть преодолены. С другой стороны, оба учения предостерегают от осуждение ближнего. Однако же, это вовсе не означает, что между христианством и даосизмом и воззрениями их основателей отсутствуют существенные различия. Как минимум, в даосской концепции абсолют (Дао) – это безличная сила, оживотворяющая вселенную, в то время как в христианской традиции Бог обычно рассматривается в более личностном свете. Даосизм олицетворяет собой естественный образ жизни человека, в нём подчёркивается необходимость следовать природе, во всём подражать ей. Христианская модель демонстрирует двойственное отношение к природе: некоторые авторы этой традиции уподобляются мыслителям античности, которые наслаждались красотой естественного порядка, иные же отказывают ей в самоценнности, демонстрируя недоверие и острое мироотрицание. Кроме того, философия Дао предполагает фундаментально позитивный взгляд на человеческую природу, по крайней мере в её неиспорченном состоянии. Христианство же склонно рассматривать мир и положение человечества в нём в качестве ужасного последствия, наказания за предательство божественного доверия (грехопадение), которое искупается Христом. Хотя мы созданы по образу и подобию Божьему, мы всё равно должны взывать к высшим силам об искуплении бремени первородного греха. Также стоит отметить, что в христианстве акцент делается на бессмертии души и загробной участи человека, в то время как даосизм, особенно в своей философской интерпретации, в первую очередь ориентирован на пребывании в этом мире. В то же время, отличительной чертой даосизма является представление о возможности достижения человеком бессмертия как в нашем мире, так и за его пределами. С учётом вышеозначенных концептуальных и мировоззренческих различий сходства между двумя духовными традициями выглядят особенно удивительно. В самом деле, бессмертные персонажи и духовные иерархии даосского пантеона напоминают сонм христианских святых и ангелов. Или, например, тройственная модель божественного у даосов и доктрина Троицы, лежащая в основе христианских мистериальных практик. Во главе даосского пантеона стоят «Трое чистых», олицетворяющая этапы саморазвёртывания Дао. Первый – Лин-бао (Владыка небесной драгоценности), воплощение инь и ян, мужских и женских полярностей, которые уравновешивают вселенную; второй – Юй-хуан (Нефритовый Император), олицетворение сил, которые приводят в движение вселенную; и третий – Лао-Цзы, автор Дао Дэ Цзин, персонификация самой даосской доктрины. Эта великая триада представляет собой структуру реальности, подобно временной шкале (прошлое, настоящее и будущее), или пространственному делению на стороны света, а также на вверх и низ. Великое дао движется в системе: Небо (тянь), Земля (ди) и Человек (жэнь). Человек занимает срединное место между небом и землёй. Небесное Дао принадлежит сфере метафизического, – это космический Абсолют, но постичь его нельзя ни при помощи слов, ни посредством приобретённых знаний. Постижение Дао требует интуитивного понимания. К нему можно приблизиться успокоясь и отрешась, не следуя ничему, не добиваясь ничего. Глава 14 «Дао дэ цзин» описывает это Дао как невидимую, неслышимую, непостижимую форму бесформенного и вечного. В то же время оно доступно для восприятия и познания, его можно выразить знаком и символом. Дао действует спонтанно и в согласии со своей природой. Эта активность не содержит намерения. В тоже время нет ничего, что остается незавершённым.
Смотрю на него и не вижу, и зову незримым
Внимаю и не различаю, и зову неслышным
Хватаю и не могу удержать, и зову неуловимым
Не стремись узнать откуда оно – оно едино
Сверху оно не в свете и внизу не во тьме
Оно бесконечно и безымянно
Оно вечно возвращается в небытие
Его называют формой без формы, образом без сущности
Его зовут неясным и туманным
Стою перед ним и не вижу лица его
На путях древнего ДАО познаешь изначальное, овладеешь сущим
ДАО называют законом всего1.
Несмотря на то, что этому китайскому термину нет аналогов в западной философии и европейской культуре, метафизическое Дао явно соответсвует Богу-Отцу в христианской традиции – надмирскому источнику творения.
Дао земли (иногда называемое дэ, «добродетель» или «мораль») представляет собой проявленную в мире силу (энергию), путь вселенной и его действие в природе. Иногда отождествлялась или сравнивалась с индийской кармой. В общем смысле обозначает основное качество, обеспечивающее наилучший способ существования каждого отдельного существа или вещи в проявленном мире. Орбиты планет, природные циклы, смена сезонов, рост и распад и т. д. – всё это представляет данный аспект Дао. Однако же, хотя материя вся пронизана Дао, руководящим принципом, упорядочивающим природу, по-прежнему является дух. На этом уровне Дао можно рассматривать как законы физики или как универсальный естественный закон. Этот принцип безличен, но благотворен; он поддерживает и преобразует всё живое.
Третий аспект даосской иерархии – это Жэнь (Дао людей) или совокупность всех видов правильного отношения человека к другому человеку т.е. определённый социальный порядок, соответствующий обществу, следующему путём природы, а не враждебному ей. В «Дао дэ Цзин» и в трудах великого ученика Лао-цзы, Чжуан-цзы, приводятся многочисленные признаки сбившегося с пути социума, потерявшего связь с Дао и погрязшего в коррупции и разврате, но также и способы восстановления изначального равновесия. В этом контексте многие идеи, лежащие в основе философии Лао-цзы, перекликаются с учением Иисуса. Более того, постулаты обеих традиций, которые ставят под сомнение саму основу несправедливой социально-экономической системы, высмеивающей древние духовные ценности, часто изложены одни и тем же языком. Конечно, Иисус выглядит более социально ориентированным, чем отшельник Лао-цзы, но, в целом, их критика общественных устоев довольно схожа. Дао человека, как его понимает Лао-цзы, соответствует Сыну христианской Троицы, воплощению космического духа в роде людском. Подобно притчам Иисуса, большая часть «Дао дэ Цзин» представляет собой свод духовных наставлений. Хотя источник этих поучений представляется мистическим и даже трансцендентным, сами они имеют прикладной характер: их цель помочь людям понять, как построить свою жизнь в соответствии с волей высшей реальности и, таким образом, преобразить своё социальное бытие в гармоничное общество. И страстные проповеди Иисуса, наследника пророческой еврейской традиции, и кроткие увещевания Лао-цзы касались политических и социальных аспектов жизни. И всё же, несмотря на то, что Иисус заведомо провоцировал своими революционными высказываниями иудейские и римские власти, на вопрос Пилата действительно ли он провозглашает Себя Царем Иудейским, он ответствовал: «Царство Моё не от мира сего». С другой стороны, страсть к социальной справедливости у Иисуса соседствует с тонким восприятием жизненных процессов, что также демонстрирует мягкосердечный Лао-цзы. Как знать, если бы Иисус дожил до глубокой старости, возможно, характером он уподобился бы китайскому мудрецу, этому простодушному «старому ребёнку».
Изучение христианской и даосской традиций привело меня к осознанию взаимосвязи между ними, невзирая на значительные доктринальные и культурные различия. В совпадении их посланий миру мне видится основа того, что Олдос Хаксли назвал Вечной Философией. В своём исследовании христианства и даосизма я попытался быть беспристрастным, выступив в роли стороннего наблюдателя. Результатом множества часов глубоких размышлений стало ясное видение удивительной близости учений Христа и Лао-цзы, чьи идеи упрочились в моём уме и сердце. Это чувство углублялось по мере того, как я перенимал духовные практики из обоих традиций: восточную медитацию, тайцзицюань, шиацу и христианские практики ежедневной молитвы и изучения писания. В наследии двух мудрецов мне видится действенное противоядие от недугов, вызванными излишествами нашей культуры и современной индустриальной цивилизации в целом.
Дорогой читатель! Я предлагаю ознакомится с моими собственными представлениями о глубинной связи между учением Иисуса и Лао-цзы, которые я «приправил» соответствующими комментариями. Я надеюсь, что размышления над словами двух замечательных духовных учителей человечества приведут нас к переживанию целостности и внутренней свободы. Пусть же все противоречия нашего мира будут преодолены посредством объединения с Духом Единой Истины.
1. Мистический опыт
Единение с Богом (Дао) посредством мистического Пути – — основа учений Иисуса и Лао-цзы, со всем тчаяньем стремившихся к проникновению в высшую природу реальности и её переживанию. Этот великий духовный поток, проходящий через все религии, устанавливает связь с оживляющим принципом вселенной – Дао Небес, проявляющимся в мире, или Богом как до, так и после Творения. Лао-цзы поведал о Дао как о «чём-то аморфном, безмолвном, трансцендентном, неизменном» или «образе того, что существовало до Бога». Иисус говорил о Боге-Отце и оставил несколько метафор природы Царства Небесного, дающих нам намёк на тайну божественного бытия. Всё это, конечно, попытки выразить невыразимое.
+++
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
От Иоанна 1:1
О возникшее в хаосе, рождённое раньше Неба и Земли!
О беззвучное! О бесформенное!
Одинокое, неизменное! Вездесущее, безграничное!
Рождающее чрево Поднебесной!
Это — мать всего сущего.
Не знаю имени его — обозначу его ДАО, «Путь»
Назову Великим
Дао дэ Цзин 25
Комментарий:
«Мать всего сущего» Лао-цзы и Логос или Слово Иоанна, совершенно воплощённое в Христе, отсылают нас к женскому аспекту таинственной Первоосновы проявленной Вселенной (Поднебесной). Это божественная, неличностная любовь, не поддающаяся делению, ибо это противоречит её бесконечности и неизмеримости. Принцип этот не называем. При возникновении «Матери Поднебесной» ещё не существовало никого, кто мог быть дать ей имя. Она – — тайна. Вечна, неизменна, невыразима, непознаваема. Всё «великое» во Вселенной – — от Пути, а значит подлинным человеческим состоянием является нечто иное как Любовь.
+++
Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также.
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь.
Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
дабы все чтили Сына, как чтут Отца.
Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его.
От Иоанна 5:19—23
Дао рождает [вещи], Дэ вскармливает [их]
Всё обретает форму, все формы достигают совершенства.
Превозношенье Пути
И силы его почитанье
Само собой происходит, ничуть
Не требуя усилья и старания.
Ибо они не принуждают, а помогают природе
Пустота рождает, чистота питает.
Дао дэ Цзин 51
Комментарий:
Дао Лао-цзы соответствует Богу-Отцу христианской традиции – невидимому, надмирскому, непознаваемому. Дэ отождествляется с Сыном или «благодатью», фундаментальным животворящим принципом, пронизывающим все формы мироздания и являющим собой воплощение космической тайны. Дэ как манифестация Дао приводит всё в движение и является причиной естественных циклов Природы (Физис, материи).
Отец – трансцендентный источник всего. Таким образом, Дэ, или Сын ближе к нашему человеческому опыту. Дао и Дэ почитаются всем сущим не вследствие приказа или обещанной награды, а по причине естественной тяги к ним.
+++
Отец во Мне и Я в Нём.
От Иоанна 10:38
Безымянное – начало Неба и Земли
Обладающее именем – мать всех вещей
Свободный от страстей видит дивную тайну ДАО
Подверженный страстям – только его проявления
То и другое – глубочайшие
Путь от одного глубочайшего к другому – неисповедим.
Дао дэ Цзин 1
Комментарий:
Определить начало Творения невозможно, равно как и обозначить каким-либо именем. Тем не мене, всё сущее в проявленной Вселенной с её мириадами миров сводится к этому единому Первоначалу, «Матери» всех вещей. В точке пересечения начала и конца, времени и безвременья, Дэ возвращается к Дао, а Сын к Отцу. Они неразрывно связаны и образуют вечное единство и только наше ограниченное восприятие разделяет оболочку явлений и их потайную сущность.
+++
И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии, как они растут:
ни трудятся, ни прядут;
но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.
От Матфея 6:28—29
С незапамятных времён и до сих пор
Было множество имен, понятий,
Чтобы Первое, Начало передать, явить, одеть в слово.
Как же нам узнать, в конце концов,
Как его нам ощутить, Начало всех начал?
Через них! Через эти предметы тварного мира!
Дао дэ Цзин 21
Комментарий:
Путь сам по себе неосязаем, но все земные формы сотканы из него. Книга Природы – начертана рукой Творца. На её страницах запечатлена дивная загадка жизни. Через Творение мы можем постигнуть Замысел. Не будем забывать, что мы также являемся частью Природы, а значит познавая Себя, мы узнаём Божественное во всём сущем.
+++
Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
От Луки 21:33
Разнообразие явлений бесконечно
Но все они возвращаются к своему началу
Вернувшись к началу, обретают покой.
Дао дэ Цзин 16
Комментарий:
В самой сути всех вещей и явлений царит покой. За пределами текущего потока переживания – Сердце Бытия неизменно. Все материальные формы бренны, но законы Природы вечны. Познав этот Корень, мы объединяемся с ним и, таким образом, достигаем счастья в вечности. Это и есть «Возвращение к Истоку».
+++
В один день Он вошёл с учениками Своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону озера. И отправились.
Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности.
И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина.
Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?
От Луки 8:22—25
Кто спокоен и тих, тот становится проводником для Вселенной.
Дао дэ Цзин 45
Комментарий:
В словах Лао-цзы мы снова сталкиваемся с парадоксом недеяния, что согласуется с посланием Евангелия. Вообще, парадоксальность присуща любому глубокому мистическому опыту. Мудрец не стремиться изменить окружающий мир. Совершенномудрый знает цену словам и силу безмолвия. Ученики так и не осознали, Кто был с ними в лодке. Если бы море продолжало бурлить, но люди смогли бы сохранить внутренний покой – это стало бы ещё более удивительным чудом. По велению Христа море успокоилось, но мир и тишину мы прежде видим в самом спящем Спасителе. Возможно, вы сейчас переживаете тяжелое испытание или пребываете в смятении, – примите эти невзгоды судьбы с благодарностью. Великая буря – великая тишина.
+++
Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.