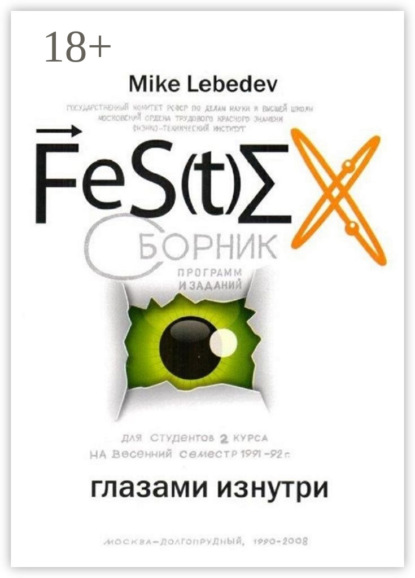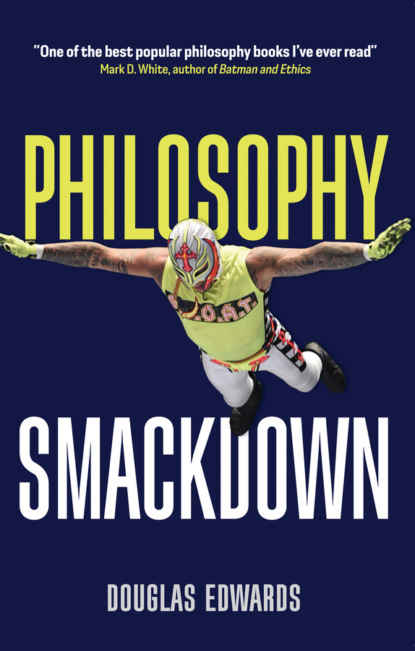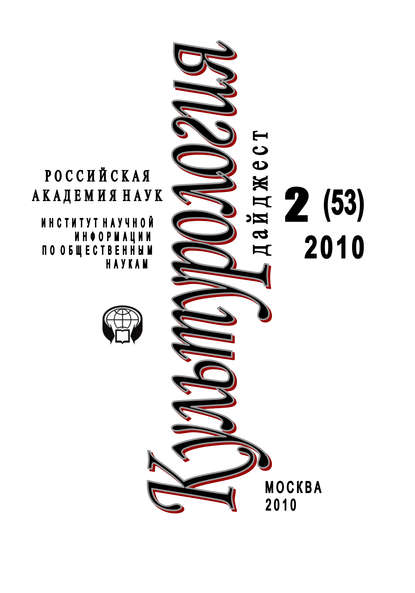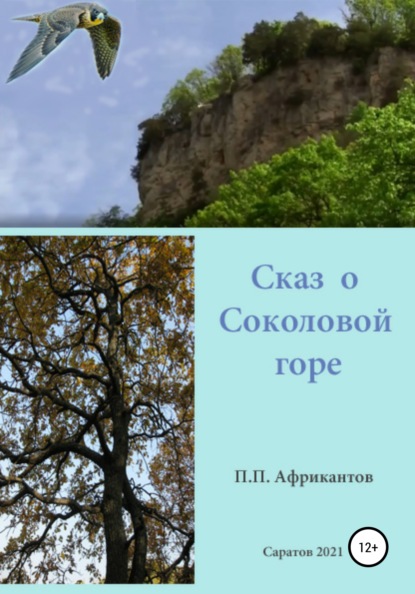- -
- 100%
- +
Уроженец Севастополя Юрий Пухляев своим прочтением бессмертной фразы «Ам хлэд – Ам стюдент» – навсегда потрясёт не только наш первый курс, но и практически весь личный состав кафедры иностранных языков, хотя там послыхали всякого… (I’m glad I’m a student – это первая фраза самого первого текста, которым, говорят, обучение английскому языку в МФТИ начинается с самого его основания. Текст так и называется – «I’m a student» – словарь-минимум). Полученное звание «короля прононса» обяжет Юрия ко многому, и, спустя несколько лет, он первым из нас перенесется за Океан по так называемому «студенческому обмену».
Студент Старина… на первом же занятии по истории он жестко «встретит» доцента Ивана Ивановича Иванова (ФИО подлинные), когда этот мастер старой закалки опрометчиво предложит нам законспектировать что-нибудь на выбор из Ленина (90-й год, напомню… не 70-й, конечно, но и не 2008-й). Точную конструкцию выступления Старины и количество упомянутых в ней мыслителей и философских систем я воспроизвести, само собой, не в состоянии (и никогда в нем не был). Можно лишь с уверенностью утверждать, что прогремевшее незадолго до этого знаменитое курехинское умозаключение «Ленин был грибом» – на этом фоне смотрелось бы крайне бледно и вторично. Неудивительно поэтому, что, хотя конец мукам Старины с пересдачей той истории положили только события Августа 1991 года – но на позиции ведущего астрально-эзотерического форпоста группы 034 он утвердился незамедлительно.
Студент Дмитрий М. во время вводного занятия по «компьютерной грамотности» практически голыми руками установит на выделенном ему аппарате таинственный «Виндоуз» – и это в те лихие дни, когда даже для профессорско-преподавательского состава оболочка NortonCommander-a казалось верхом совершенства. Этот успех Димы будет отмечен, и спустя несколько лет он окончательно покинет нас, скрывшись в недрах виртуальных сетей.
Студент Михаил Л. (а, ну это я, значит… добрый день) победит в конкурсе «Самая лучшая надпись на парте» нашей многотиражки «За науку». Вернее, как сказать «победит»… анонимно, само собой, третье место и спецприз в разделе «За волю к победе, или Крик души»: творение его представляло собой короткую интродукцию в виде слова «Лектор:» – и далее примерно полутораметровое повторение «бу-бу-бу». Концептуально и со вкусом, согласен. Этот успех пробудит в Михаиле дальнейшую тягу к литературной деятельности, что и приведет его в итоге к написанию данного текста…
Студент Митрич… впрочем, о его Явлении народу будет отдельный рассказ.
Студент Маракасыч напротив, с первых же «колхозных» дней щедро проявит себя на почве не особо пристального, скажем так, внимания к нормам личной гигиены и, как следствие, неуживчивости в тесном мужском коллективе – за что будет слегка бит и навсегда станет для Группы её вечным Позором… но мы все равно его любим.
Отметится Поступком даже молчаливый, словно ушедший в себя студент Николай Гибсонов. Однажды он уединится в чистом поле и будет долго и сосредоточенно там что-то такое делать. Затем он тихо, словно СТАТИЧЕСКОЕ электричество, подкрадется со спины к Маракасычу и молча прижмет к его чистой, как и у всех бездельников, телогрейке половину свекольного кочана. Когда он отставит кочан, все увидят, что на телогрейке отпечаталось написанное высокохудожественным готическим шрифтом слово «ХУЙ». И Николая навсегда зауважают за его чувство справедливости и такта…
Командовал всем этим безобразием наш староста Андрей Васильевич. Мы встретим его, когда перед самым первым сентября, счастливые и просветленные, будем тащить из библиотеки свои первые институтские учебники. Андрей Васильевич посмотрит на нас печальным взглядом и горестно сообщит: «Книжки несете? А я свой лабник уже где-то посеял…», чем и задаст практически навеки вектор нашего дальнейшего общения (об этом, впрочем, тоже еще будет сказано).
Словарь-минимум
«Лабник» – «Практическое руководство по проведению лабораторных работ», своеобразная, так сказать, связующая нить от Теории Физики к её Практике
Вы спросите – да могло ли столько настоящих героев нашего времени взять и вот так вот непринужденно собраться в рамках одной-единственной, причем еще не самой крупной, учебной единицы? Могло. Я бы и сам не поверил, если бы не был ТАМ… Случай? Да, безусловно. Случай, да – но никак не случайность. Парадокс близнецов. Неопределенность Гейзенберга, зажатая в четкие рамки принципа детерминизма и необратимости времени. Бесконечно большая вспышка дельта-функции на стремящемся к нулю интервале. Точка отсчета на мнимой оси единиц. Ведь я и сам попал в группу 034 случайно… или то был – указующий перст Судьбы?.. Решайте, в общем, сами. Дело было так.
В давние-стародавние времена нашей «абитуры», сиречь поступления, канонический Физтех состоял из девяти факультетов. ФРТК, ФОПФ, ФАКИ, ФМХФ —«большая», так сказать, четверка. Затем несколько загадочный лично для меня ФФКЭ (физическая и квантовая электроника), удаленный ФАЛТ (аэромеханика и летательная техника, базируется в подмосковном Жуковском), ФУПМ (управления и прикладной математики; не знаю, как они прикладывают в математике, а вот на футбольных полях «прикладывали» в те годы всех подряд, и очень ощутимо, надо признать), разудалые «проблемы» ФПФЭ (факультет проблем физики и энергетики, весёлая слава их общежития «восьмерки» гремела далеко за пределами Долгопрудного) и самый сравнительно (сравнительно!) «девчачий» ФФХБ (физической химии и биологии).
Но начиналось всё, само собой, с первых четырех факультетов. И если кому-то вдруг покажется, что выбор направлений для них был достаточно произволен, и почему бы, скажем, было не заменить химическую физику на, к примеру, наоборот, физическую химию… как бы не так, любезный мой гуманитарный читатель. Смотрите внимательно.
Как известно, дабы ничто не омрачало мирный созидательный труд советских граждан – отечественная баллистическая ракета (…выпущено цензурой, автору – Предупреждение…) должна была бесперебойно пронзать плотные слои атмосферы над условной территорией вероятного противника. Ну, или, во всяком случае – быть готовой это сделать. Таким образом, решать задачи движения на активном и пассивном участках траектории был призван Факультет Аэрофизики (ну, это наш, третий, как вы уже знаете). Ракетой в полете надо как-то управлять – этим займутся бравые парни с Факультета Радиотехники и Кибернетики (№1, поприветствуем, пожалуйста, наших дорогих «паяльников»! ) В полете ракета сжирает немыслимое количество топлива и окислителя – доблестные физхимы с Факультета Молекулярной и Химической Физики день и ночь корпят над улучшением их и без того высокооктановых чисел. И наконец, по прибытии ядерного щита Родины к месту назначения – не худо там для острастки что-нибудь такое подорвать… ну, тут уж никто не сравнится с простыми, мужественными очкариками с Факультета Общей и Прикладной Физики (номер два, прошу любить и жаловать, они же «топоры», но почему именно «топоры» – рассказывать не буду… пусть сами расскажут, если захотят). Всё логично, как видите – и абсолютно ничего лишнего.
Также надо заметить, что одной из особенностей «Системы Физтеха»…
Словарь-минимум
«Система Физтеха» – «…С самого основания в Московском физико-техническом институте используется оригинальная система подготовки специалистов, получившая широкую известность как „система Физтеха“…» (из официального определения).
Так вот, одной из особенностей этой самой «Системы» является раздельный конкурс на каждый факультет. То есть способный, рвущийся к знаниям абитуриент с определенным набранным количеством баллов на вступительных экзаменах (а экзамены, в плане задач на письменном во всяком случае, для всех одинаковые) может не пройти по конкурсу на что-нибудь умное, типа ФОПФ-а (хотя понятие «проходного балла» на МФТИ изначально отсутствует, и это тоже особенность всё той же «Системы»! ) … и в то же время с тем же количеством очков он с блеском может проскользнуть куда-нибудь попроще. Ну, на тот же на ФАКИ родимый… Экзаменов, кстати, тогда было четыре, математика и физика письменно и устно, так что общее количество заветных баллов могло колебаться от 12 до 20. В общем, были варианты. Да, и еще потом сочинение по русскому, но там уже без оценки, «зачет – незачет», чисто для проформы отсеять уникумов уровня «физека» и «матиматека», буде такие найдутся, не позорить чтоб в дальнейшем славное имя Ордена Трудового Красного Знамени Института…
Хотя, положа руку на сердце, выбора у меня особого не было. Ну, факультеты за пределами «Большой четверки» отпали сразу, да простят меня их питомцы – тут ничего личного. Радиотехника… боюсь, что понять, или хотя бы объяснить другим, как работает тот же транзистор – я не смогу до сих пор. Только разве что диод. С химией, буду откровенен – история почти такая же. Достаточно вспомнить глаза профессора А. П. Богданова, дай бог ему здоровья, когда он уже на экзамене после годичного курса этого наследия средневековых искателей «философского камня» вдруг обнаружил, что я не в курсе тонкой разницы между понятиями «моляР-ность» и «моляЛьность»… хвала Провидению, в эти глаза я смотрел уже после того, как заслуженное «отл.» было вписано в зачетку и Ведомость. ФОПФ… ФОПФ и сейчас, как ни старались его воспитанники образца 1990—1996 годов убедить меня в обратном – представляется все-таки наиболее мозговитым кластером Фе-стеха. Так что…
Не будем в который раз забывать и о времени, в которое осуществлялся наш выход из пубертатно-прыщевого периода жизни. Еще свежи были в памяти воспоминания о дубине Стратегической Оборонной Инициативы (СОИ), которой Стране Советов вовсю грозил бывший актеришко Рейган. Тема «Звездных войн» (само собой, НЕ знаменитого фильма режиссера Лукаса, это понятно) долгое время была доминирующей в отечественной печати, начиная от «Правды» и заканчивая любимым журналом «Юный техник». Последний весьма любопытно и сравнительно грамотно расписывал все прелести грядущего возможного противостояния двух систем на околоземной орбите и далее. Боевые межпланетные станции, фотонные двигатели, лазерные пушки и управляемые «чёрные дыры» – нет, тут определенно было от чего впасть в очарование. Как известно, ближе к нашему Последнему звонку проблемы, обуревавшие бедную Родину, переместились из небесных высот в более приземленные, бытовые, так сказать, плоскости – но Мечта-то осталась!
Правда, ближе непосредственно к Поступлению, с разных сторон все увереннее стали доноситься голоса, что, дескать, далеко не всегда на Фестехе под той или иной вывеской скрывается именно то, что нужно (тут у меня нет данных, считать ли это тоже частью «Системы Физтеха», или просто локальным недоразумением). Так, уже хрестоматийным примером стало то, что прославленный ИКИ (Институт космических исследований) приписан в качестве «базового» отнюдь не к факультету Космических же Исследований – а напротив, очень даже к «Проблемам физики и энергетики». Особенно усердствовала в этом моя внеклассная наставница Анна Николаевна (ну, репетитор, значит… тут я должен сознаться, что романтика романтикой, а толковые люди в этом тонком вопросе никогда не помешают… Когда с одного края блестящая карьера вплоть до личного полета в космос, как у старшего однокашника Александра Сереброва… ну или хотя бы как у Александра Филиппенко… а с другой – повестка, сборный пункт, сапоги 45-го размера и «Через две – через две весны!» – тут не до лирики). Спасибо Вам, Анна Никалавна (как, впрочем, и подавляющему большинству упомянутых здесь людей), но… но ведь хорошая, по-спортивному злая упертость – тоже неотъемлемая часть будущей звезды научного небосклона, верно? Да и кто из нас, сказать по правде, в семнадцать лет прислушивается к окружающим… да, а к кому мы прислушиваемся?
Итак, с уверенными девятнадцатью баллами (и тут еще раз спасибо!) я прибыл на… (тут, плача горькими слезами, автор сознательно должен опустить эпизод непосредственно вступительных «испытаний», как их по-старомодному любят называть на Физтехе… иначе объем «словаря-минимума», необходимого для понимания всех остроумных тонкостей этого мероприятия, легко превратит сей текст в двух-, а то и сразу трехтомник – прим. авт.)
В общем, с набранными потом и кровью девятнадцатью очками я прибыл на собеседование…
Да!!! На Физтехе же всегда было «собеседование», в рамках всё той же «Системы»! Или даже как, наоборот, на заграничный манер любил называть его тогдашний ректор Николай Васильевич Карлов (он же, само собою, «Папа Карло») – «интервью». В том плане, что дословный перевод этого слова с латыни – «взаимный взгляд». И вот этот-то «взаимный взгляд» и заменяет в МФТИ пресловутый «проходной балл». В том плане, что сидит себе такая уполномоченная комиссия, маститые ученые, представители факультета, делегаты предметных и базовых кафедр, собеседуют с тобой, дураком, в исключительно благожелательной тональности… ну и промеж делом выясняют для себя твои интересы, степень твоей вовлеченности в процесс, желание твоё устремиться к сияющим высотам Научной Истины именно в рамках Физтеха, а не где-нибудь еще. И вот, значит, если этот сиятельный ареопаг вдруг увидит, что, хотя баллов у тебя и маловато, но ты весь из себя такой и прямо-таки ослепительно сгораешь от желания пройти по стопам Михайло, к примеру, Ломоносова – то тебя, так и быть, примут. И напротив: если баллов у тебя хоть двадцать (а четыре «пятерки» получить – это, я вам скажу, не шутка), но жгучего интереса именно к МФТИ у тебя нет, да и на «двадцатку» тебя попросту «натаскали» заботливые частные преподаватели – тут уж извини, могут и развернуть…
Ну, когда-то давно, может, так оно и было. В наше же упадочное время все было уже попроще. Насчет «отраженных» «двадцатибалльников» я лично, честно говоря, никогда не слышал. А вот обратный случай имел место, когда поистине легендарный студент Потапов, уже один курс отучившийся, вылетевший, тут же заваливший следующую «абитуру», и повторно поступающий (а интегрально – в пятый раз!!!), с поистине жалкими двенадцатью очками явился на «интервью» – был-таки снова принят! Потому как тут уж сразу было ясно – человек ХОЧЕТ… также ясно, правда, было, что декан Ткаченко явно НЕ ХОЧЕТ уже кинуться от настойчивости студента Потапова в окно деканата и разбиться там насмерть, несмотря на всего второй этаж. Впрочем, об этом – уже совсем скоро. Еще, правда, был случай, когда один провинциальный поступающий, ужаснувшись окружающей Физтех среде, назвал его «розой на помойке» и, не дождавшись результатов экзаменов, укатил восвояси. Якобы после этого Н. В. Карлов лично обещал его разыскать и принять «за точность формулировки» – но поскольку указанного парня вроде так и не нашли, данную историю мы проведем по разряду многочисленных «легенд»…
Короче, со своими трепетными девятнадцатью баллами я прибыл на Собеседование. Дожидаясь своей очереди и будучи близок к коварному «пределу сверху», я, честно говоря, слегка переживал за конечный исход мероприятия. Не хотелось, знаете ли, вот так за здорово живешь сойти за «натасканного» – поэтому на всякий случай я был готов в лицах пересказать краткое содержание тематических статей из любимого «Юного техника». А заодно, если понадобится, поведать даже, как по практическим советам журнала «Техника – молодежи» с помощью программируемого микрокалькулятора во время уроков играл под партой во вполне подходящую игру «Космический полет». Все эти данные вкупе с парой дипломов ФАКИшных олимпиад для школьников должны были, на мой взгляд, произвести на собравшихся должное впечатление.
Всё это время рядом со мной, безмятежно развалившись на подоконнике (знаменитое «сигарное» место возле читального зала Главного корпуса – это так, для точности экспозиции), курил умного вида человек – это был, как потом выяснится, знаменитый (и не только на ФАКИ) разгильдяй Виктор Порошков, пришедший (это под конец уже «абитуры» -то!) выяснить, когда там типа какие экзаменчики можно посдавать за второй курс, за второй семестрик-то… (Так, давайте-ка быстренько прикинем степень беззаботного величия студента Виктора Порошкова… Экзамены в летнюю сессию заканчиваются самое позднее 20 июня, потом несколько дней на пересдачи, потом два потока письменных вступительных, потом устные, потом еще сочинение – в десятых числах июля Порошков явился! Ну, самое время… говорю же – Великий!) …ну и заодно, значит, посмотреть, как проходит собеседование у Порошкова-младшего (по разгильдяйству, замечу, затем оставившего далеко позади старшенького… гены, что тут скажешь!). Не знаю, чем я привлек внимание Порошкова-старшего – но вот привлек.
– Ты на ФАКИ же поступаешь? – осведомился настоящий знаменитый разгильдяй у будущего знаменитого писателя.
– На ФАКИ, – волнуясь, подтвердил я (все-таки, с настоящим уже фестехом разговариваю).
– Куда проситься будешь, в какую группу? Баллов сколько? – продолжил своё собственное импровизированное «интервью» старший Порошков.
– Буду проситься на космические корабли. На звездолеты какие-нибудь… на фотонные двигатели в крайнем случае. А баллов у меня девятнадцать…
– Ты чё, муда-а-а-ак??? – несмотря на всю свою чудовищную лень, настоящий фестех можно даже сказать «вскочил» и вылупил глаза на удивительный природный феномен, которому вздумалось с девятнадцатью баллами проситься на звездолеты, – Ты дурак совсем, мужик, да? Какие еще звездолеты??? Очнись! Просись в «четвертую», остолоп, тут люди мечтают об этом всю сознательную жизнь, а ты с девятнадцатью фотонами бредишь. Тебя сразу возьмут. Не будь идиотом, они в рейс идут…
Поясним гениальный ход мыслей бывалого фестеха Порошкова. Последняя цифра в номере группы – это не просто ее порядковый номер. В ней в сакральном виде зашифрован так называемый «базовый институт», по-простому «база» (Словарь-минимум). Это уже академический, исследовательский институт, к которому изначально прикреплена группа. Именно на «базе» начинаются с третьего курса занятия «по специальности», именно там у тебя появляется научный руководитель («шеф» – Словарь-минимум), и именно там в конечном итоге пишется и защищается дипломная работа. И наша будущая «четвертая» группа приписана как раз к Институту Океанологии им. П. П. Ширшова… Вы спросите, конечно – а что же общего между Мировым Океаном и Космосом? Ну, для начала – и то, и то безгранично, так я вам скажу… а Петр Петрович Ширшов, между прочим – четвертый из знаменитой четверки героев-папанинцев, о чем далеко не всем известно… А специализация в океанологии предполагает на пятом курсе участие в самой настоящей экспедиции, «рейсе», на каком-нибудь прославленном изыскательском линкоре, «Витязе» там, или «Академике Келдыше»… а из «рейса», если кто не дурак, во время захода в порты вероятного противника вполне реально привезти себе подержанную, но вполне себе еще ничего «тачку» (чем, кто не дурак, и активно занимались).
– …они в рейс идут, тачку привезешь, не будь дебилом. Тачка – это тебе не звездолет… – закончил свою мысль бывалый фестех Порошков.
ООООООМ!!! Своя ТАЧКА!!! Уже (всего лишь!) на пятом курсе, до которого почти рукой подать! СВОЯ ТАЧКА!!! (на дворе, напомню, стояло лето 1990-го года, не самого, прямо скажем, урожайного в плане личного автотранспорта для самых широких слоев населения, не только студенчества). Вмиг всё во мне перевернулось, и мощнейшие межпланетные звездолеты на фотонных двигателях стремительно скрылись в черной космической дыре. ТАЧКА… вооруженный этим внезапно открывшимся сокровенным знанием, я на трясущихся ногах вошел на Собеседование…
Представительная комиссия доброжелательно изучила мои результаты, благо, большая часть ее спокойно спала. Дело, в общем, было решенное… «Ну и в какой области желаете в дальнейшем специализироваться, Михаил?» – раздался гнусавый голос декана Ткаченко.
– Я это, – запнулся я, – в океанологии… (сейчас, сейчас они меня «расколют»… ну за каким чертом я послушался первого встречного дурака?) Желаю… океаном с детства брежу… в плавании занимался (две недели… пока не выгнали за хронические сопли… но этот факт лучше скрыть – какие сопли у морского волка???) … в общем – ХОЧУ!
Услышав слово «океан», проснулся мужчина второй справа в очках (он, как потом выяснится, имел весьма жизнеутверждающую фамилию и крайне многозначительное имя-отчество… его звали Владимир Владимирович Жмур).
– Океанология, говорите? – заинтересованно поправил оправу на переносице новый интервьюер, – Очень, очень хорошо. А про внутренние волны вы что-нибудь знаете?
«Вот оно, – подумал я, – здравствуй, армия… Вот не сиделось тебе на тихой трансгалактической орбите….» А вслух сказал:
– Нет. Но думаю, что это те волны, которые внутри.
– Логично, – согласился Жмур, – надо брать. И снова погрузился во вдумчивый сон…
Вот оно. Тот самый миг. Случай – но случайность ли? Нет. И тысячу раз нет.
Так я стал студентом достославной «ноль-тридцать-четвертой» группы, гимн которой и пою до сих пор.
Про внутренние волны, кстати, я и сегодня, несмотря на все старания профессора Каменковича, знаю почти столько же, сколько и тогда.
«Самое простое на Физтехе, друзья – это поступить на него» – так напутствовал нас, уже наконец-то зачисленных, на первом общем собрании ректор Николай Васильевич Карлов. И был, как всегда, прав.
Сергей Базилевич и немного лирики
…Стоял душный июльский полдень. Расплывшийся контур солнца едва угадывался где-то над плотным атмосферным маревом, отяжелевший ветер вяло перекатывал пыль по раскаленному асфальту, и даже листва на деревьях шелестела как-то лениво и устало. Поверх чьих-то волнующихся затылков я смотрел на свою фамилию в списке зачисленных на первый курс МФТИ… Странно, но я не чувствовал ровным счетом ничего. Ни особой радости, ни даже пресловутого «удовлетворения от хорошо сделанной работы». Наверное, я слишком часто представлял себе этот момент раньше, в деталях и красках, вплоть до крика «Йоу!» и прыжка с места до третьего этажа… и вот я – студент. Можно разорвать по листочку «Методические указания для поступающих», торжественно сжечь на медленном огне «Варианты вступительных экзаменов прошлых лет», наконец, аккуратно проложив промокашечкой и мысленно передав пламенный привет полковнику из военкомата, задвинуть куда подальше приписное свидетельство, о чем тоже не надо забывать… Вместо этого я понуро брел по шпалам по направлению к Москве (электричку, надо заметить, отменили даже в такой торжественный день… о, электрички Савеловского направления! Вот я уже доберусь до вас.) и думал… думал о чем? О том, что колея отечественного железнодорожного полотна шире европейской для того, чтобы враг не смог использовать здесь свои вагоны… да, а шпалы, значит, уложены на таком расстоянии, чтобы человек нормального роста или семенил по ним, спотыкаясь через раз, или наоборот, тянул шажочек вплоть до «растяженья в паху». Эти сиюминутные рассуждения помогали отвлечься от тут же навалившихся раздумий глобального порядка: «А „потяну“ ли я учебу?.. А справлюсь ли?.. А сессия – это вот как?.. А с ребятами в группе – как сложатся отношения?.. А если в общаге?.. Эх, неспроста Николай Васильевич сказал про „Самое простое – это поступить“, ох неспроста… А может и впрямь – „Оставь надежду всяк сюда входящий“?..»
Словарь-минимум «Оставь надежду всяк сюда входящий» – «заботливо выведенная белой краской на асфальте перед Аудиторным корпусом, эта фраза встречала всех абитуриентов, прибывающих для сдачи документов в приемную комиссию. Строгое это Предупреждение много лет регулярно обновлялось перед началом вступительных экзаменов, однако в последнее время по каким-то бюрократическим причинам это дело прекращено.
Да десять раз «ха-ха», друзья мои. Видимо, не я один был сминаем подобными мыслями… во всяком случае, именно для приведения таких вот рефлексирующих недавних школяров в положенный настоящему фестеху бодрый и молодцеватый вид – и было предусмотрено первое мероприятие из череды многих традиционных мероприятий. И имя ему было – «Отработка»…
Физтех вообще, как старушка Англия – силен и жив традициями. Недаром все-таки задумывался он как «русский Оксфорд» (ну, или Кембридж). Традициями как понятными и где-то даже естественными – так и наоборот, загадочными и необъяснимыми. Возьмем, скажем, слово «мужик», с которым на Фестехе традиционно обращаются друг к другу. Вполне логично для коллектива, девяносто пять процентов которого (по уточненным данным – девяносто шесть) составляют мужики как они и есть, и девушка в группе воспринимается практически как подарок Судьбы. Но фактически тут же – «тортик» в качестве универсальной оплаты за те или иные насущные услуги. «Потерян студак. Нашедшему – тортик», «Спишу лабу за второй семестр первого курса. Давшему – тортик», «В спортзале №2 забыта гиря 64кг. Принесшему – два тортика» – и так далее. Тут, казалось бы, в мужском-то коллективе должен был бы найтись другой всеобщий эквивалент единичной Доброты… ан нет: тортик. Парадокс, да и только.
Конец ознакомительного фрагмента.