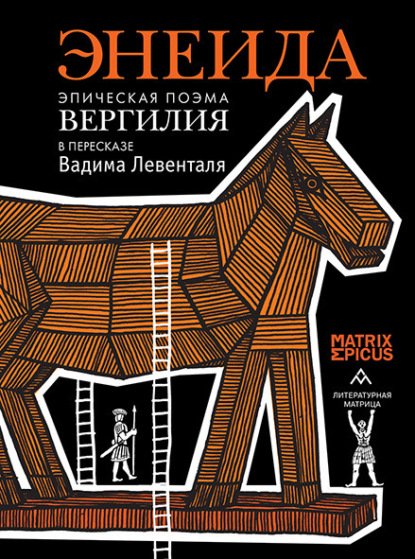Энеида. Эпическая поэма Вергилия в пересказе Вадима Левенталя
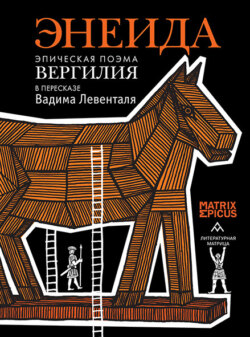
000
ОтложитьЧитал
Иллюстрации Александра Веселова
© В. Левенталь, пересказ, 2024
© ООО «Литературная матрица», макет, 2024
© А. Веселов, иллюстрации, обложка, 2024
* * *
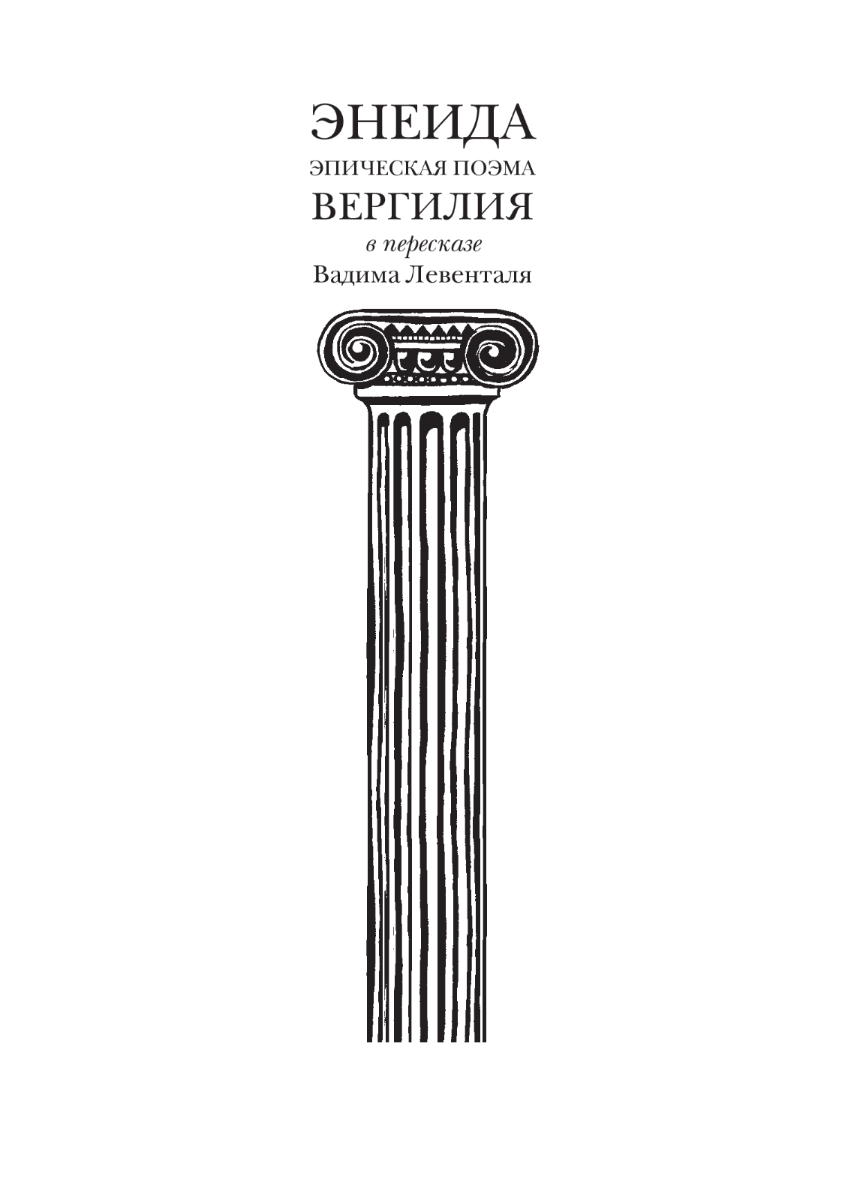
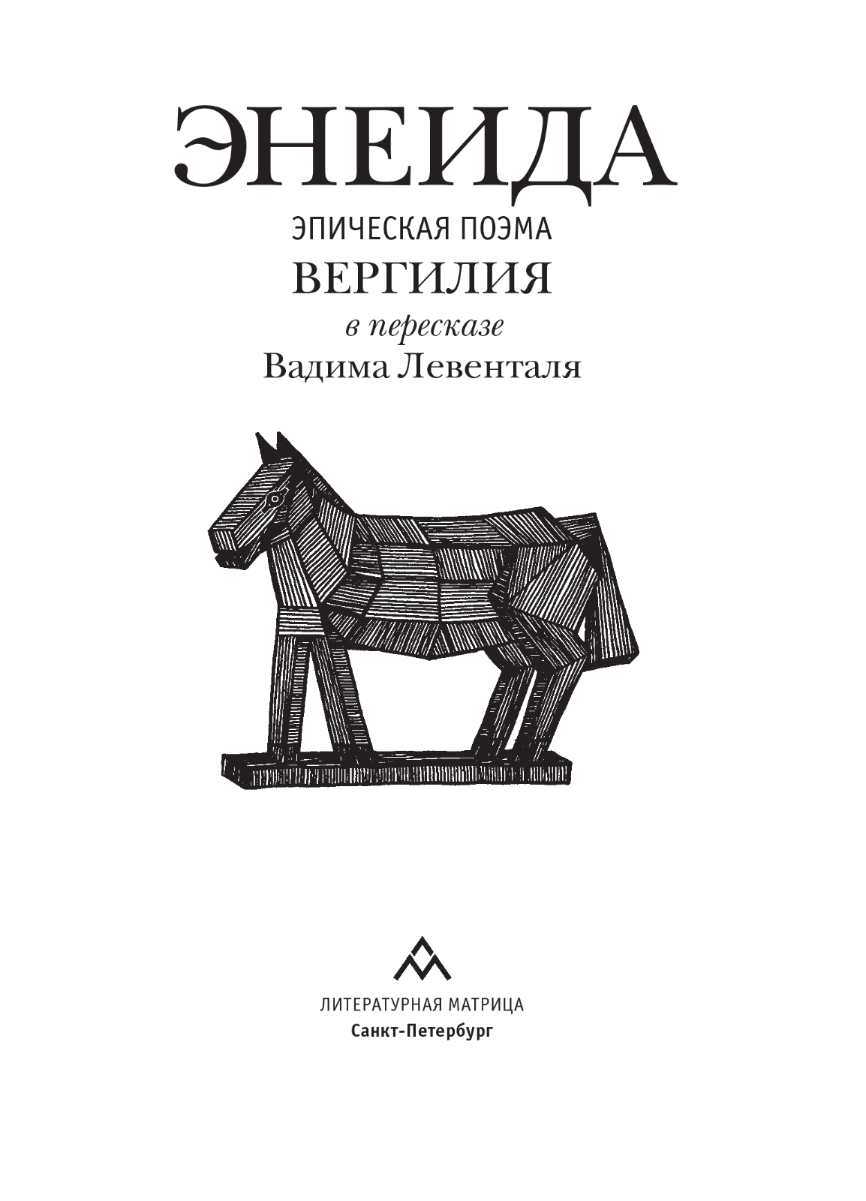
Предисловие
Эта книга выходит в серии «Matrix Epicus», но смотрится в ней немного белой вороной. «Гильгамеш», «Песнь о Нибелунгах», русские героические былины, «Калевала» и так далее – всё это фольклор, то есть народное, коллективное творчество. «Илиада» и «Одиссея» приписываются Гомеру, однако специалисты склонны первую считать всё-таки произведением фольклора и лишь вторую, может быть, в какой-то степени продуктом творчества одного-единственного автора, о котором мы в любом случае ничего не знаем наверняка.
Что касается «Энеиды» – тут мы точно знаем, кто был её автор, когда, в каких обстоятельствах и с какой целью он её написал.
Публий Вергилий Марон (70–19 до н. э.), приближённый императора Августа и самый знаменитый поэт своего времени, писал поэму последние десять лет своей жизни и умер, не дописав её. Работая над «Энеидой», Вергилий выполнял своего рода госзаказ: от него требовалось восславить величие Рима и обосновать тот факт, что Август стал единоличным правителем государства. То есть на самом деле всё было гораздо сложнее и интереснее (найдите в Интернете статью М. Л. Гаспарова «Вергилий – поэт будущего» и почитайте её, она того стоит), но для первого приближения сойдёт и так.
В статье Гаспарова говорится и о другом общеизвестном факте: «Энеида» написана в подражание Гомеру, причём сразу и «Одиссее», и «Илиаде». На это указывают первые же слова поэмы, знаменитые:
Arma virumque cano…
Дословно: «Пою войны и мужа». Иными словами – расскажу о сражениях (как в «Илиаде») и о приключениях (как в «Одиссее»). В «Энеиде» полным-полно отсылок к Гомеру и не только к нему. Именно поэтому она – литературное произведение в отличие от любого фольклорного, ведь собственно литература появляется тогда и только тогда, когда текст отсылает к другим, известным читателю, то есть как бы «помнит» о текстах, сочинённых до него.
Одним словом, в отличие от «Старшей Эдды», «Пополь-Вух» или «Пятой Веды» «Энеида» – это литература.
И всё же появление её в одном ряду с ними закономерно: в силу гениальности автора и привходящих исторических обстоятельств «Энеида» воспринимается как «натуральный», без ГМО, народный эпос; в структуре римской и мировой литературы она выполняет его работу. Достаточно сказать, что многие сюжеты из неё мы знаем, даже если её не читали, – вот хотя бы про падение Трои и троянского коня или про Энея и Дидону, да мало ли.
Однако вот парадокс: сюжеты знаем, а саму поэму – чаще всего нет. Средний читатель, если он не учился на филфаке и не сдавал «античку», мог читать «Илиаду» или «Одиссею» (ну хотя бы отрывки в школьной хрестоматии), но «Энеиду» – едва ли. Этому есть простое объяснение: нам не повезло, гениального (конгениального, пхахах) перевода поэмы на русский не существует.
Европейской культуре такой перевод долгое время вообще не был нужен: вплоть до недавнего времени любой образованный европеец свободно читал на латыни, тем более что носителям романских и германских языков учить латынь проще, нежели нам. Именно поэтому Европа все эти две тысячи лет знала «Энеиду» наизусть, и знала её лучше, чем Гомера, – ведь как раз «Илиаду» и «Одиссею» там читали чаще всего в переводе.
На русский «Энеиду» переводили несколько раз, в том числе Фет и Брюсов, но читать эти переводы трудно, они больше похожи на головоломки; не везёт. Перевод С. А. Ошерова, появившийся в 1971 году, – единственный, который без труда можно найти в библиотеках и который до сих пор переиздаётся. Он хороший, но, увы, чуда не произошло – Вергилий так и не зазвучал по-русски. Читая его, трудно понять, почему «Энеида» сразу возглавила все хит-парады и две тысячи лет остаётся в чартах, стала серебряной, золотой, платиновой, палладиевой и бог знает какой ещё.
И почему именно эта пластинка так въелась в подкорку всей европейской культуры, что отсылки к ней и цитаты из неё есть буквально везде, куда ни ткни, в самых неожиданных книгах (а мы их не всегда видим, потому что сами «Энеиду» не читали)? А ведь она не единственная эпическая поэма, дошедшая до нас от Древнего Рима, их полно, от великолепных – как «Фиваида» Стация или «Фарсалия» Лукана – до ну такое типа «Пуники» Силия Италика. Но всё-таки «Энеида» – особняком. Почему именно она?
Секрет прост. Он – в Вергилиевой латыни. В оригинале стихи «Энеиды» звучат так, что читателя трясёт, будто на оголённых проводах. Вспомните самые торжественные из великих русских стихов – пушкинского «Пророка», или тютчевского «Цицерона», или «Товарищу Нетте» Маяковского, – сложите вместе и умножьте на два; вот примерно так. Величие и свободное течение, размах и простор, пафос и восторг, дыхание полной грудью и гулкий подземный рокот, литавры и фанфары, Девятая симфония Бетховена и увертюра к «Тангейзеру», мурашки по спине и слёзы из глаз.
Едва ли это вообще можно перевести на другой язык. Автор (безусловно, гений) работал десять лет; нужен был бы другой гений (и чтобы у него тоже было много свободного времени). А так, чтобы ещё при этом точно передать содержание каждого стиха, – ну нет, невозможно.
К счастью, передо мной такой задачи – переводить – и не стояло. Задача была – пересказать простым русским языком. Так, чтобы текст легко и удобно читался, чтобы понятно было, о чём речь. Если при этом мне удалось хотя бы отчасти, хоть на сотую долю, передать торжественный слог оригинала – тем лучше. Если при этом приходилось жертвовать строгой верностью букве оригинала – ну что ж, значит, приходилось жертвовать; важнее было сохранить дух.
Я пользовался двумя переводами – Ошерова и Брюсова, – постоянно сверяя их друг с другом, и время от времени залезал в оригинал, восстанавливая в памяти университетскую латынь. На филологическом факультете СПбГУ мне повезло учиться у Юлии Викторовны Гидуляновой, и, пользуясь случаем, я выражаю ей глубочайшую благодарность за тот суровый и беспощадный курс молодого бойца, который я прошёл под её руководством; учить латынь, знаете ли, это вам не лобио кушать.
И всё же: этот пересказ выполнен не для специалистов по Античности – зачем бы им это было надо? – а для любознательного читателя. Может быть, школьника. Может быть, студента с непрофильного отделения. Да просто любого читателя, который хотел бы ознакомиться с содержанием «Энеиды», а времени и сил продираться через гекзаметры, даже русские – о, это отдельный навык! – нет.
Тут, правда, возникает ещё одна сложность. Текст Вергилия полон реалиями, вещами и идеями, с которыми современный читатель, если он, конечно, не специалист, незнаком. Британский ученый Николас Хорсфолл написал пять томов комментариев к «Энеиде» – и его работа так и осталась незавершенной.
Снабжать этот пересказ постраничным комментарием – кто такая Кибела, где находится Фригийская Ида и т. п. – значило бы похоронить главную цель работы: сделать текст, удобный для чтения. Невозможно с удовольствием читать книгу, удерживать внимание на напряженном действии и понимать, о чём речь, если постоянно приходится отвлекаться от чтения в поисках объяснений, что значит то или иное слово.
Идеально, исчерпывающе решить эту проблему невозможно – пришлось бы заодно переводить пять томов Хорсфолла. Да и вообще для этого по-хорошему нужна целая рабочая группа при Академии наук (почему, кстати, такой группы до сих пор нет?). В общем, мне приходилось искать компромиссы и крутиться, имея в виду главную цель: удобство чтения.
Некоторые слова и явления, если это было удобно, объяснены прямо в тексте – там, где они впервые упоминаются. Скажем, в 13–14-й строках Третьей книги сказано:
Terra procul vastis colitur Mavortia campis
(Thraces arant)…
То есть (в переводе Ошерова): «Есть земля вдалеке, где Маворса широкие нивы пашет фракийцев народ». Комментарий здесь должен был бы разъяснить, куда именно и к кому приплыл Эней. Я позволил себе ввести этот комментарий прямо в текст: «Вдалеке, по другую сторону Фракийского моря, по берегам Струмы пашет Марсовы нивы племя эдонов». Заинтересованный читатель легко найдёт на карте и Фракийское море, и реку Струму и узнает, кто такие эдоны.
В каких-то случаях я всё-таки рассчитывал на школьные познания читателя в мифологии и географии – ну камон, нетрудно же вспомнить, кто такой Юпитер и где находится Ливия.
В других случаях я исходил из того, что у современного читателя всегда под рукой телефон с поисковиком – все названия и имена приведены к такому написанию, чтобы их было удобно найти в Интернете. Так, в той же Третьей книге Энею во сне являются пенаты и говорят:
Dictaea negat tibi Iuppiter arva.
То есть: «Юпитер не даёт тебе Диктейских пашен». Я позволил себе написать «пашни у подножия Дикти», потому что по запросу «Диктейские пашни» поисковая машина дает только ссылки на «Энеиду», а вот запрос «гора Дикти» сразу отсылает куда надо.
Для самых дотошных читателей в конце книги всё же сделан словарик со всеми именами и названиями, упомянутыми в поэме. Однако я рекомендую обращаться к нему только в самом крайнем случае – когда без этого совсем никак и ничего решительно непонятно (mea culpa). Ну или в том случае, если вы будете читать эту книгу во второй раз – ну мало ли, – чтобы пройтись по уже знакомому тексту и вникнуть в мелочи, которые ускользнули из поля зрения в первый раз.
Я всё же настаиваю: для первого раза кое-какие вещи легко могут остаться для читателя этакими неясными иероглифами древности; Лотман в предисловии к «Имени розы» говорит о читателе, который ничего не понимал в средневековой схоластике и для которого споры номиналистов и реалистов в романе оставались чем-то вроде музыки, нагнетающей саспенс в триллере, ну почему нет – подобным образом читатель моего пересказа может позволить себе воспринимать что-то, что он не вполне понял. В идеале эту книгу нужно прочитать быстро, насквозь, не отрываясь и не отвлекаясь на изыскания – как с горочки скатиться, – главное должно быть понятно и так. (А потом уже, если вдруг захочется – забраться на горочку снова и исходить её всю вдоль и поперёк, подолгу вдумчиво останавливаясь у каждого кустика… Обещаю, это отдельный и крайне увлекательный опыт.)
Читатель, у которого руки до этого не дойдут, имеет полное право спросить: а насколько этот пересказ вольный, очень ли его содержание расходится с содержанием оригинала? Что ж, ответ такой: нет, на самом деле не слишком, бывает и хуже. У Вергилия кое-где хромает греческая география, потому что он никогда не был в Греции, в поэме есть кое-какие тёмные места и единичные позднейшие вставки, кое-что в поэме осталось не отшлифованным, есть даже некоторые противоречия внутри самого текста, потому что, как уже упоминалось, поэт умер, не закончив работу, – такие вещи я как сумел «зашпатлевал». Кроме того, я свободно переставлял фразы, когда иначе не получалось, что-то перефразировал, а с чем-то с тяжёлым сердцем и расставался, потому что ну никак не получалось сказать это по-русски. Однако я всё же уверен, что всё это касается мелочей – иногда страшно интересных, но всё же на общую картину влияющих мало. Главное должно быть понятно и так, причём понятно без комментария.
Тем не менее есть несколько вещей, которые имеет смысл объяснить прямо сейчас. Так сказать, договориться на берегу. Зная их, читать будет легче и понятнее, а стало быть, интереснее.
Начнём с того, что мы тут не на семинаре по античному оружию и античным доспехам. Безусловно, есть разница между дротиком и копьём, панцирем и нагрудником, щитом таким и щитом сяким – однако там, где эта разница казалась мне непринципиальной для общей картины, я жертвовал точностью в пользу благозвучности. Реконструкторы, мамкины знатоки и прочие специалисты благоволят в таких случаях обратиться к латинскому оригиналу.
Нам также не обязательно детально разбираться в античной утвари – чаша и чаша, – однако есть одна вещь, которая в тексте упоминается довольно часто, – это крате́р. Тут нужно представить себе не просто чашу, а большую, размером этак с тазик, чашу. Из неё не пили; она предназначалась для того, чтобы в ней смешивать вино.
Вино греки и римляне обычно пили, смешивая с водой. Тот, кто пил неразбавленное вино, считался пьяницей. Однако иногда неразбавленное вино всё же было законно: в особо торжественных случаях и, само собой, когда вино предназначалась богам, то есть проливалось над алтарём, например.
Привычных нам богов здесь зачастую зовут их римскими именами – Юпитер, Юнона, Венера (а не Зевс, Гера и Афродита). Важную роль в какой-то момент в поэме играет чуть менее известная у нас Кибела, которая здесь отождествляется с греческой Реей, титанидой, матерью Зевса, Геры, Посейдона и некоторых других, поэтому она также называется Матерью богов.
Кроме богов, общих для греческого и римского пантеонов, тут есть и чисто римские боги, такие как Янус или Квирин, – но большой роли они всё равно не играют. Иногда вы увидите имена типа Марс-Градив, Диана-Тривия или Нептун-Эгеон – это не другие боги, а те же самые; в первом приближении можете считать эти наращения просто дополнительными именами. Однако если вам захочется чуть получше разобраться в путаной (вдвойне путаной) толпе античных богов, титанов, гигантов и прочей живности, а также в религиозных обрядах, которых тут тоже полно, – рекомендую обратиться к соответствующим главам в первом и втором томах «Истории веры и религиозных идей» М. Элиаде[1] (а вот иностранный ресурс, внесённый в реестр сайтов с запрещённой информацией, – Википедию – в данном случае не рекомендую, тут она скорее запутает и введёт в заблуждение).
Вообще у одного и того же лица в «Энеиде» может быть много разных наименований, не нужно этого пугаться. Аполлон может называться Фебом, а может Тимбреем. Юл – он же Асканий. Пирр – он же Неоптолем, он же сын Ахилла и он же Пелид. Всё это каждый раз по разным причинам, объяснять которые я не вижу настоятельной необходимости. Я старался сделать так, чтобы всякий раз было понятно из контекста, о ком идёт речь, и в любом случае в главных героях вы точно не запутаетесь, они всегда называются одинаково. (Однако же не перепутайте реку Тибр и бога этой реки Тиберина!)
То же самое касается группы лиц. Спутники Энея, его народ, могут называться троянцами, тевкрами, энеадами, дарданидами или фригийцами – потому что они граждане Трои, принадлежат к народности тевкров, путешествуют с Энеем, их общий прародитель Дардан, а область, из которой они происходят, – это Фригия (то есть, на наши деньги, западная часть Анатолии, или иначе Малой Азии, где и стояла Троя).
В «Энеиде» также упоминается множество племён, населяющих (населявших) Италию, – ру́тулы, тиррены и другие. Латины при этом могут называться ещё лаврентцами по названию своей столицы Лаврента. При этом все эти племена вместе могут называться италийцами, понятно почему, или авзонидами, потому что Авзония – другое название Италии. Иногда в тексте появляется Гесперия – так, вообще говоря, называлась вся область западного Средиземноморья, но тут опять-таки имеется в виду Италия.
И снова я призываю вас не пугаться, если вы чего-то недопоняли или в чём-то запутались. Самые важные, ключевые моменты сделаны так, что запутаться в них невозможно – во всех остальных случаях можно пренебречь и плясать дальше; разберётесь потом.
Чуть сложнее обстоит дело с манами, ларами и пенатами. Правда состоит в том, что до сих пор даже среди специалистов идут споры – кто это такие и в чём между ними разница. Для простоты и общего понимания давайте считать, что всё это – духи предков. Маны – это такие духи предков, которые живут в царстве мёртвых. Пенаты – это такие духи предков, которые живут в доме, а также их изображения, то есть маленькие статуэтки; их можно взять с собой, если куда-то переезжаешь. А лары – это такие духи предков, которые живут в доме, но взять их с собой нельзя, они прочно привязаны к месту; то есть если дом сгорает, например, то они сгорают вместе с ним.
Вообще мёртвых и смерти в «Энеиде» примерно столько же, сколько жизни и живых. Говорить об античной концепции смерти можно было бы бесконечно, но для понимания поэмы критически важно понимать вот что. В мире «Энеиды» страшно умереть, но ещё страшнее не быть похороненным. А ещё страшнее и того и другого – смерть детей. Да, в Шестой книге описывается Элизий, населённый душами праведников, – но как раз это для Античности небывалое исключение. Правило же состоит в том, что с представлением о бессмертии души у греков и римлян было туго: либо бессмертия нет, либо оно есть, но такое, что лучше б не было. Одним словом, для Античности дети, наличие потомства во многом идею бессмертной души заменяют. Поэтому, убивая меня, ты всего лишь убиваешь меня; но убивая моих детей, ты лишаешь меня бессмертия. Именно так к этому относятся герои «Энеиды».
Но вернёмся к праведникам и скажем главное.
Самое принципиальное.
То, без чего будет вообще ничего не понятно. Или понятно, но с точностью до наоборот.
Три восклицательных знака.
Относиться к героям «Энеиды», осуждать или одобрять их поступки нельзя с позиций современной (старой или новой, пхахах) этики. То есть можно, конечно, кто ж запретит, но это нарушало бы принцип историзма. Потому что наша современная этика хотя и наследует античной, всё же очень серьёзно трансформирована христианством.
Христианская этика, как известно, строится на системе заповедей, то есть запретов. Есть вещи, которые делать нельзя. Тот, кто их делает, совершает грех и становится грешником. Так возникает оппозиция «грех – святость». Причём для христианской этики предпочтительны именно эти экстремумы – как известно, раскаявшийся грешник Богу дороже ста праведников, а тех, кто ни холоден, ни горяч, Он пообещал изблевать из уст Своих.
Античная этика иная. Никаких запретов она не знает, экстремумы презирает, а ключевые ценности для неё – умеренность, смирение перед волей богов и перед судьбой, владение собой, самообладание. Грубо говоря, если христианская этика говорит «не убий», античная говорит: «убей, если такова воля богов, но сделай это без удовольствия».
Именно поэтому многочисленные поздние сюжеты на мотив «Эней и Дидона», как бы прекрасны сами по себе они ни были, не имеют никакого отношения к Вергилию. Мы, воспитанные в лоне христианской культуры, да ещё в реверберациях эпохи Романтизма, сочувствуем Дидоне: ведь она так страстно любит, разве это не прекрасно! Но с точки зрения Вергилия и его имплицитного читателя, она заслуживает осуждения – как раз потому, что от страсти потеряла голову. Мало того – ещё и впала в отчаяние, другую эмоциональную бездну. А вот Эней, наоборот, в этой истории красавчик – во-первых, следует воле богов, а во-вторых, ни в какие крайности не впадает: не влюбляется до безумия в царицу, но и не отказывает влюблённой.
Та же история и с главным антагонистом второй части поэмы, царём рутулов Турном. Мы ничего не поймём в их с Энеем противостоянии, если не обратим внимание на то, что Турн постоянно впадает в экстаз, в бешенство, теряет контроль над собой, выходит из себя, не помнит себя, позволяет страстям завладеть собой. Фуко назвал концепцию античной этики «забота о себе» – так вот Турн вообще о себе не заботится. Напротив, Эней всегда равен себе, владеет собой, держит себя в руках. Правда, он может впадать в ярость – но это только во время битвы, тогда можно, это единственный случай, когда можно – и, конечно, лишь до того момента, когда противник обезоружен. Тут нужно мгновенно успокоиться и прийти в себя. Что он в финале и делает. Правда, убить поверженного противника всё же придётся – но ведь такова воля богов, а значит, это ещё один плюс к карме![2]
Вот почему Турна, при всей его доблести и храбрости, античный читатель «Энеиды» воспринимал как того, кто ведёт себя недостойно, фу таким быть.
И вот почему Вергилий так настойчиво всю дорогу называет Энея insignis – слово трудное для перевода, но ничего лучше, чем благочестивый, пока так и не придумали. Потому что в мире поэмы он – идеал современника; по римским понятиям, он находится примерно на том же месте, где по христианским находился бы святой. И кстати, местночтимым богом, то есть на римские деньги святым, он в конце концов и станет. Почему? Потому что он чтит волю богов и не подвержен страстям.
Ну что ж, вот теперь вы снаряжены в поход. Хотя бы самым необходимым.
Поехали.
Итак,
Arma virumque cano…
- Калевала. Карело-финский эпос
- Одиссея. Древнегреческий эпос
- Гильгамеш, сын Лугальбанды. Шумерский эпос
- Старшая Эдда. Песни о героях. Прозаическое переложение скандинавского эпоса
- Илиада. Древнегреческий эпос в пересказе Сергея Носова
- Сказания о нартах. Эпос народов Северного Кавказа в пересказе Игоря Малышева
- Божественная комедия, или Путешествие Данте флорентийца сквозь землю, в гору и на небеса
- Пополь-Вух. Эпос майя-киче
- Энеида. Эпическая поэма Вергилия в пересказе Вадима Левенталя