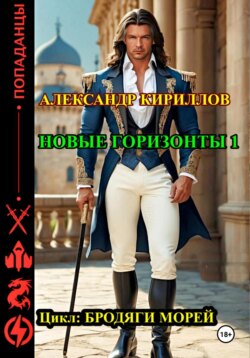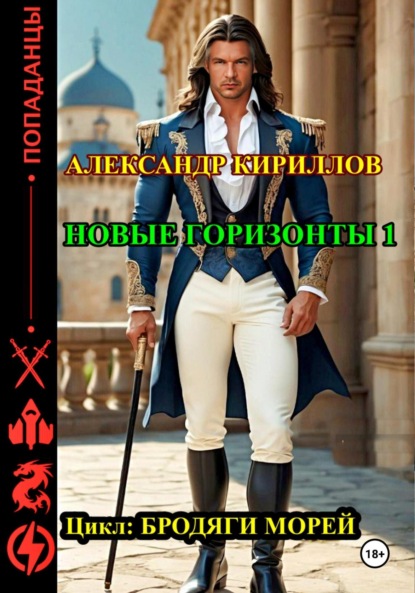Глава 1. Гардемарин
Я летел по просторам небытия, когда передо мной из эфемерной трубы выскочил светлый энергетический сгусток, стукнулся об меня, ойкнул и полетел дальше. От неожиданности я тоже «ойкнул», отвлёкшись от своего курса, отчего эфирный ветер подхватил меня и занёс в канал, соединяющий мир мёртвых с миром живых. Когда я открыл глаза, понял, что нахожусь в воде, причём, уверенно приближаюсь к песчаному дну. Сверху под лучами солнца переливалась водная гладь и чернела какая-то громадина.
Из великого "ниоткуда" появился ангел:
– Здорова, Саня! Купаешься?
– Здорова! Ангел, куда это я попал?
– 18-й век. В гардемарина, которого угораздило сорваться с корабельной реи и бухнуться в море.
– Отличный выбор.
– Скажи спасибо, что не на палубу, а то бы костей не собрали.
– Дружище, ну, сколько можно меня селить в эту "до революцию". Я хочу нормально принять ванну, посмотреть телевизор, летать на курорты самолётами, а не тарахтеть месяц на лошади.
– Я старался, а ты опять недоволен.
– Надоело! Понял? Надоела мне седая старина. Хочу современную цивилизацию.
– Современную, говоришь? Есть один вариант. Как тебе Европа 21-й век?
– Вот, можешь же подобрать, когда захочешь. Полетели!
– Хочу сразу предупредить, что имеется один нюанс.
– Да ладно, на месте разберёмся.
– И всё же! Твой реципиент – представитель ЛГБТ, причём, в этом деле он «дама». В общем, Саня, чего там долго говорить, полетели!
– Подожди, подожди! Куда ты так торопишься? Если подумать, то в 18-м веке есть своя романтика – дворяне, прекрасные дамы, императорские балы.
– Зато нет цивилизации. Всё, Санёк, хватит нудить, полетели. Оформлю тебя по-быстрому и пойду смотреть кино с твоим участием. Или решил остаться?
– Ангел, дружище, знаешь, я всё-таки решил остаться.
– Сам не знаешь, чего хочешь! Я уж представил себе, как ты в новый образ входить будешь. Ты же рядовым участником не останешься, обязательно в передовики выбьешься.
– Умеешь ты убедить в правильности выбора. Ладно, брат ангел, спасай меня, а то, похоже, что гардемарин окончательно захлебнулся.
Неведомая сила подбросила меня вверх, и я вынырнул на поверхность моря. Надо мной нависал борт парусной шхуны, на палубе которой столпились гардемарины, кадеты, матросы и офицеры из преподавателей. Они стали кричать и тыкать в меня пальцами:
– Вон он, живой!
– Штормтрап за борт. Гардемарин Михайлов, хватит принимать морские ванны, быстро поднимайтесь на борт!
Я схватился за болтающуюся верёвочную лестницу с деревянными ступеньками и быстро поднялся по ней на палубу. Падения матросов на парусных судах были нередки, поэтому, удостоверившись, что я в норме, экипаж корабля продолжил работу. Я получил приказ снова лезть на рею и завершить задачу по установке паруса.
Постановка парусов – зрелище необыкновенное. Матросы должны были по вантам подняться на соответствующий марс – площадку на стыке двух колен мачты, затем перебраться на рей и бежать по нему босыми ногами, придерживаясь за слабо натянутый трос – леер. Добежав до своего места, садились верхом на рей и сразу же спускались ниже, чтобы встать на подвешенный под реем канат – перт. За рей держались левой рукой, слегка перевешиваясь через него, а правой рукой либо развязывали "концы" фала, либо завязывали, ставя или убирая парус.
Забравшись наверх, по натянутому тросу полез к самому краю реи, обходя сокурсников. Когда добрался до своего пролёта, принялся развязывать фалы, отпуская парус. Мой сосед, здоровый и рослый юноша, тихо зашептал:
– Что, Карась, хорошо искупался?
– Паршиво. Почему я карась?
– Ныряешь хреново. Я тебя так классно столкнул, а ты в море бухнулся, словно килька на тарелку.
– Слышишь ты, дебил маринованный, так это ты меня столкнул?!
– Я, ха-ха! Хотел поглядеть, как тебя от палубы "отшкребать" будут, да ты мимо пролетел.
– Ах ты, жаба волосатая! Спустимся – урою!
– Спустимся, Карасик, так я тебе вмиг сопатку раскровяню.
Снизу послышался свисток боцмана, а затем окрик вахтенного лейтенанта: «Михайлов, Бурович, отставить разговоры. Что вы там копаетесь? Поставили парус и спускайтесь вниз».
С видом заправского моряка я соскользнул по фалу вниз, перебирая руками и регулируя скорость «съезжания» ногой. Бывалым матросам считалось позорным спускаться по вантам, поэтому они съезжали по различным вертикальным снастям. Новички, естественно, обдирали кожу на руках, потому что нельзя было скользить, а надо было быстро перехватывать снасть руками. Всё это требовало огромной ловкости и физической силы, так что не надо думать, что каждый моряк парусного флота летал по вантам словно птичка. Побывав в тёмные времена пиратом, я не был асом в постановке парусов, больше занимаясь капитанской и штурманской работой. К тому же парусное вооружение тогда было проще, но определённый опыт у меня имелся. Так что я лихо соскочил на палубу по верёвке.
Ко мне обратился вахтенный офицер:
– Гардемарин Михайлов, покажите руки?
Я повернул ладони, показывая целую, не содранную кожу.
– Отменно. Вижу, что хватило ума перебирать руками.
– Так точно, господин лейтенант.
В это время по вантам спустился остальной молодой народ. Офицер по фамилии Лангман прошёлся по ним:
– Что, черепахи, наконец-то, слезли? Учитесь у Михайлова, как надо с рея на палубу возвращаться.
Вокруг, посмеиваясь, стояли несущие смену матросы и боцман. Мы разошлись по палубе, народ занялся другими морскими делами, а я с размаху засадил кулаком Буровичу в морду. Он схватился за лицо, а я добавил ещё. Парень был старше и крупнее меня, но от ударов присел на попу. Раздались крики матросов и гардемаринов, останавливающих или поддерживающих драку, только я не обращал на это внимание, молотя кулаками курсанта по голове. Меня схватил крепкий матрос и оттянул в сторону. В это время Бурович вскочил на ноги и в ответ накинулся на меня с кулаками. Я дёрнулся, вырываясь из объятий матроса, но тот держал меня крепко, отчего мой противник заехал пару раз кулаком мне по лицу. Такое дело мне совсем не понравилось, поэтому, применив приём, каким надо вырываться из захвата, вывернулся и заломил моряку руку. Тот отпустил меня, и я снова ринулся в рукопашную против Буровича. Попав несколько раз ему в грудь и лицо, опять свалил парня на палубу.
В это раз меня скрутили двое моряков, а лейтенант заорал: «Гардемарин Михайлов, тридцать ударов розгами. Извольте следовать на экзекуцию. Гардемарин Бурович, умойтесь и приведите себя в надлежащий вид!»
Меня повели на бак – носовую часть судна, где разложили на палубе. Пришлось снимать портки, и матрос отгрузил мне по заднице 30 ударов розгами. Что же, свою карьеру в новой реальности я начал весьма ярко. Натянув штаны, вместе со шмыгающим разбитым носом Бурович, я стоял перед вахтенным офицером. Заговорил лейтенант:
– Господа, прошу примириться.
– Я не буду мириться с человеком, который столкнул меня с реи.
– Не понял, Михайлов, что означает "столкнул"?
– А то и означает, что столкнул. Хотел посмотреть, как меня от палубы отскребать будут. Я его убью, чтобы он никого больше не столкнул или ещё чего не придумал.
– Хм, Бурович, это правда?
– Нет. Врёт он все!
– Вы же сами нас окрикнули, когда он хвастал, что столкнул меня.
Стоящий рядом народ: что гардемарины, что матросы, что офицеры – сурово насупился. Такое не прощают. Офицер скомандовал: «Разойтись по местам, продолжаем учение. Бурович, сядь на шканцах. Подумать надо, как с тобой теперь быть».
Бурович сидел в уголке возле бизани, а я с разрисованной попой, которая очень щипала – кровь-то из лопнувшей кожи текла по-настоящему, продолжал изучение матчасти корабля. Оказалось, что не все матросы лазили наверх. На военных кораблях не более 30% команды работали на высоте и назывались «марсовыми». Марсовые были элитой экипажа корабля, по возрасту являясь ещё молодыми, но уже достаточно опытными матросами. А вот на самом верху работали 14-16-летние юнги, потому что они были легче, бесстрашнее и быстрее добирались до верха мачты. Конечно, всё это было крайне опасно, и падение матроса с реи, увы, являлось повседневностью парусного флота. Потерял концентрацию, "щёлкнул клювом", сорвался и полетел вниз. Хорошо, если упадёшь в воду – есть шанс выбраться, а если матрос свалится на палубу с десяти метров, то нет матроса. Завернут его тело в холст, прицепят к ногам груз и скинут в море на вечный покой.
Мы, гардемарины первого года, проходя практическое обучение, выполняли обязанности "неполноценных" матросов – юнг, а гардемарины старшего курса – полноценных матросов 2-й статьи. Матросами 1-й статьи как раз являлись марсовые и ветераны. Такой матрос на ощупь знал весь такелаж, поскольку ночью никакого освещения на судне не было, кроме как в компасе и на шканцах от фонаря с углями, где находились вахтенные офицеры. И если ночью происходили парусные манёвры, то матрос в полной темноте должен был правильно управляться с такелажем. При столкновении в эфире сгусток энергии – душа настоящего гардемарина Михайлова, передала мне свою память, так что мои прошлые знания плюс новые позволили спокойно ориентироваться в названии такелажа – я понимал, о чем идёт речь, когда вахтенный орал в рупор, чего надо «подтянуть», а чего «отпустить».
Наибольшая путаница такелажа была на носу судна – баке, потому что здесь проходил такелаж фок-мачты, такелаж бушприта и частично такелаж грот-мачты. Поэтому самые старые матросы, которые уже не могли лазить по вантам, но обладали большим опытом, переводились в «баковые». В это время во флоте, как и в армии, служили пожизненно. Те, кто по старости или увечью не мог ходить на корабле, переводился в «береговые» или денщики в офицерские семьи. А «более зелёные» матросы работали в центральной части судна с такелажем грот-мачты или на корме у бизань-мачты. Командный состав традиционно находился на квартердеке или шканцах, расположенных между гротом и бизанью. Соответственно, молодняк был под контролем офицеров. Когда гардемарин поднимался на мачту для работы с парусами, офицеры уже не могли его контролировать, поэтому на нашем учебном судне на марсах стояли мичманы.
Вскоре меня взял в оборот старый матрос 1 статьи с серьгой в ухе, которого звали Макарыч. Было ему где-то за сорок – подтянутый, с жилистыми руками, седыми волосами и серьгой в ухе. Насколько я знал, серьга означала, что он был единственным сыном в семье. Видать, остальные родные – девахи. В общем, пока меня не касались команды, я рассмотрел и ощупал, откуда и куда какой фал идёт, какие паруса под моим управлением имеются и угомонился. За мной все время наблюдал "моя нянька" Макарыч. Зато когда офицер проорал новый приказ, я лихо справился с косыми стакселями, поставив их в рабочее положение.
«Ловко ты, Михайлов, управился. Помогло, видать, купание»,– тихо проговорил матрос, показав мне большой палец вверх. Я козырнул ему. Естественно, что вахтенный лейтенант так же заметил мои потуги, глянув на песочные часы, чтобы увидеть затраченное мной время. После окончания 4-часовой вахты пришло время отдыха, и на смену заступила следующая группа гардемаринов. Сейчас в нашем учебном походе вечерняя смена была самой спокойной, потому что из-за неумения нас не нагружали ночными манёврами. Несколько парней подошли и поинтересовались, как я себя чувствую, но не более. Я взял их на заметку, но сделал вывод, что друзей у Александра Михайлова здесь нет.
Вечером в кубрике, лёжа в своём гамаке и покачиваясь в ритме волн, я обратился к памяти погибшего юноши, которая передалась мне после столкновения наших душ. Кем же я оказался в этот раз, и куда меня занесла "нелёгкая"? На дворе стоял 1753 год, время правления малограмотной, сексапильной и сумасбродной императрицы Елизаветы Петровны. В императорском дворце два раза в неделю проходили балы, зачастую костюмированные. Последней модной «фишкой» было переодевание дам в мужские наряды, а кавалеров в юбки и платья. В общем, развлекались дворяне, как могли. Деньги на увеселения лились рекой. Единственно, что она хорошо умела делать, это отменно говорила на французском языке, отчего в стране началась повальная галломания – подражательство всему французскому.
На фоне балов и разгульной жизни высшего света в лидеры государства и армии выдвинулись достаточно умные деятели: Румянцев, Пётр Салтыков, Пётр и Иван Шуваловы, Разумовский и другие. Ещё из положительного нужно было отметить, что в Россию хлынули иностранные архитекторы и прочие строительные мастера, и началась активная застройка столичных городов. В частности, Петербург отстраивали молодые итальянские мастера Росси и Растрелли, создавая великолепные дворцовые ансамбли в роскошном стиле барокко и рококо.
От общих воспоминаний перешёл к тому, что касалось меня лично. Родителей и близких родных у меня не было, так как мать умерла от болезни, а отец, служа в звании поручика в пехотной части Петербургского гарнизона, являлся повесой и картёжником. В итоге он проиграл свою деревеньку в сотню душ, стрелялся на дуэли и был застрелен. Меня, как сироту, в 11 лет определили в Морской корпус на подготовительный курс. Был я тогда полным неучем, даже писать не умел. На этом курсе я «отмотал» два года, пока не перешёл в кадеты младшей группы. Курс в любой группе обучения состоял из двух лет. Однако если кадет не тянул учёбу, то годовую программу можно было пройти за два года. Обычный курсант проходил курс за два года, а тупой курсант – за четыре. Несмотря на изначально слабую подготовку, мой реципиент проявил усердие, окончив курс младшей кадетской группы в положенный срок, после чего был переведён в кадеты старшей группы, где также отучился два года.
И вот в июне по результатам экзаменов меня зачислили на старший, гардемаринский курс, как его здесь называли. В статусе гардемарина мне предстояло проучиться два обязательных года на морском и инженерно-артиллерийском курсах, а, по желанию, ещё год на управленческом. Гардемарины так же учились от двух до четырёх лет на обязательных курсах, и год или два – на управленческом. Получалось, что в одной роте были как 16-17 летние юноши, так и 20-летние лбы, а то и старше, просидевшие на каждом учебном курсе вместо двух лет – четыре. Отличники получали лейтенантов, хорошисты – мичманов, а тупые, либо бездельники выпускались унтер-офицерами, канонирами или плотниками.
Поскольку я оканчивал курсы в отведённое время, сдавая экзамены с хорошими оценками, то мне было всего лишь 17 лет. Тарахтеть три года я не желал, отчего решил первый год присмотреться, а на второй попытаться окончить третий курс экстерном. Если же так не получится, то и хрен с этим дополнительным курсом. Как говорится, важно не, сколько ты окончишь учебных заведений, а как сможешь пристроиться. К тому же звание выше лейтенанта все равно не получишь, а «тёплые» места займут отпрыски из благородных семейств. Я же хотя и был дворянского происхождения, но являлся сиротой, да ещё и нищим. В связи с этим находился на полном государственном обеспечении, получая три рубля в месяц стипендии на личные нужды. С такими думками я и уснул.
Проснулся от всеобщей побудки, когда происходила пересменка. Быстро пролетело время, отведённое на гигиенические процедуры и завтрак, после чего мы приступили к утренней уборке. Лично я драил палубу шваброй, но не так, как надобно, за что получил от унтера чувствительную зуботычину. Простимулированный таким внушением, я исправился и стал намывать деревянный настил как следует.
Затем заступил на смену, где, выполняя команды начальств, гардемарины продолжили совершать над парусами различные надругательства. С каждым днём я всё шустрее управлялся с поручениями, да и в ночную смену довольно сносно ориентировался в частях «бегущего» такелажа. Макарыч докладывал мичману, а тот лейтенанту, что гардемарин Михайлов зело борзо проявляет усердие при выполнении своих обязанностей по судовому расписанию, показывая при этом хорошее умение.
Когда моя смена окончилась, я решил заняться тренировкой мышц: совершил несколько подходов отжиманий, бега на месте, качания пресса, а на камбузе у повара выпросил нож и разделочную доску. Тот, колдуя над обедом со своими помощниками, поинтересовался:
– Зачем тебе нож? Зарезать кого удумал?
– Делать мне больше нечего, как в Сибирь на каторгу попадать. Могу здесь тренировку устроить и сдать инвентарь.
– А ну, покажь, что у тебя за тренировка.
Я закрепил доску, подержал в руках мощный кухонный нож, прикидывая его балансировку, размахнулся и вогнал оружие в доску.
– Однако, малец! А ещё сможешь?
– Руки отвыкли, надо бы потренироваться, а потом по-разному смогу метать.
Вот так и повелось, что перед сном я разминался полчаса на артиллерийской палубе, а на кухне метал нож, а потом точил его. Посмотрев, как я это сделал, кок поручил мне наточить топор и все ножи, имеющиеся на камбузе. Несколько гардемаринов приходили и смотрели на мои потуги. Так прошла последняя неделя нашего месячного учебного похода на Ладожское озеро. За время похода мы побывали на Валааме и заходили в порт крепости Шлиссельбург (Орешек), учась маневрировать в портовых акваториях. С Буровичем я до конца плавания не пересекался, а ему подниматься на реи больше не поручали.
После посещения Орешка судно вернулось в Петербург, а мы в свои казармы. В кабинете директора училища, капитана второго ранга Нагаева, проходил доклад о походе гардемаринского курса первого года обучения. Докладывали капитан учебного корабля и наставники рот. Естественно, было доложено о произошедшем инциденте.
– Господин директор, вот такое в нашем походе приключилось происшествие.
– Печально. Гардемарина Буровича отчислить и отправить "бурбоном" в Кронштадский гарнизон. А что Михайлов?
– После купания проявил недюжинные способности в учении. Исполнителен, стал пользоваться авторитетом среди кадетов, простите, гардемаринов. В свободное время, когда все отдыхали, час проводил в физических упражнениях.
– И что он совершал?
– На руках отжимается от палубы, выжимает мышцы живота и скачет на месте – бегает и прыгает в высоту, словно на скакалке. А ещё выпросил у кока нож, держит в руке и крутит кистью, а затем метает в доску. Отменно метает, доложу вам. Целые представления устраивает, а народ сидит и смотрит, как он уродуется.
– Такие изменения с ним после купания начались?
– Так точно, купание совершенно изменило его. Я сам не узнаю гардемарина. Вместо робкого, обычного юноши он стал каким-то отстранённым от всех и не по годам серьёзным.
– Ну и хорошо. Скоро начнутся занятия, пусть учится с усердием.
Наступил июль месяц, что для нас и преподавателей означало начало летних каникул. Большинство кадетов и гардемаринов разъехались по домам, так что казармы стояли полупустыми. Мне было некуда ехать, поэтому все лето я собирался провести в Корпусе. В кубрике нашей роты осталось человек пятнадцать, кому так же было некуда ехать, либо слишком далеко. Это сейчас за несколько часов из Петербурга в Москву доехать можно, а тогда пешком месяц приходилось добираться. Разве что у тебя подменные лошади, тогда 80 километров за сутки проскачешь и в пару недель можно уложиться.
Делать мне было нечего, так что я отправился к куратору нашей роты лейтенанту Лангману:
– Евгений Аристархович, прошу выдать мне учебные пособия для нового курса, саблю и дать разрешение ходить в тренировочный зал для проведения учебных экзерсисов. Хотелось бы узнать, могу ли я поработать в мастерских при Корпусе, делая какие-либо изделия? Денег совсем нет и где их взять – не имею понятия.
– Не утомишься, гардемарин Михайлов?
– Смена занятий уже есть отдых.
– Отменно мыслишь, гардемарин. Хорошо, похлопочу о тебе перед начальником Корпуса.
Так что я получил доступ в зал в любое время дня, где стояли мачты, были развешены реи и остальные прибамбасы парусного оснащения. Здесь я занимался общефизической зарядкой и на скорость лазил по вантам. Во втором зале были сабли, пистоли и мушкеты, которые мы учились заряжать, разряжать и чистить. Занимаясь с саблей, я не столько рубил и колол, сколько крутил кисть, держа в ней оружие, причём, делал это для обеих рук. Одним словом, просто готовил мышцы к большим нагрузкам. Потом метал нож и переходил к огнестрелу. Возня со всеми этими мерными пороховыми стаканчиками, пыжами и разбегающимися по столу круглыми дробинами, явилось для меня полнейшей нервотрёпкой. Тем не менее, час в день я уделял заряжанию мушкета и пистоля. После этого к тренировке статической силы мышц – держал по несколько минут пистоль на вытянутой руке, а мушкет – уперев в плечо. Уже через три недели тяжеленое оружие не дрожало в руках несколько минут, и я мог точно прицелиться. Стрелять мне не разрешали, так что, закончив тренировку, сдавал инвентарь нашему кладовщику, которого во флоте называли баталёром. Завершив физические занятия, приступал к освоению учебников по алгебре, геометрии, тригонометрии и физике. С этим было легко, а вот с учебниками по фортификации и русской словесности пришлось повозиться.
В делах очень быстро пролетел месяц. В мастерские меня не пустили, отчего я решил самостоятельно на основе транспортира сделать дальномер. Пусть я не сделаю его в металле, но бумажный макет изобрести мог. Оказалось, что в это время артиллеристы всех стран полагались на свой глаз и опыт, а не на приборы, которых просто не было. Так что я вырезал макет из картона. Вот здесь мне пригодилась тригонометрия. По известному углу, который я выставлял на дальномере, с помощью косинусов, синусов и тангенсов, а так же известной длины сторон дальномера, вычислял реальное расстояние до объекта. Затем на основе расчётов тригонометрических функций я составил таблицу дальности, которую перепроверял, лотлинем измеряя реальные расстояния. Погрешность расчёта была незначительной, связанная с грубой градуировкой транспортира.
В этом деле моим первым помощником и товарищем стал невысокий, спокойный и независимый паренёк по имени Самсон Алексанов, который, также как и я, остался на лето в Корпусе. Вторым товарищем оказался рослый парень по имени Сергей Медакин. Тот больше тяготел к оружию. Увидев, что я занимаюсь с саблей и метаю нож, который мне подарил на память кок нашего учебного судна, он присоединился к моим тренировкам. И теперь мы ходили и измеряли расстояния, «вылизывая» таблицу дальности, после чего с Сержем рубился на тренировочных деревянных саблях. Он был физически сильнее меня, но устоять в бою против арабского корсара и мастера сабельного боя начала 20 века не мог. Единственно, что сейчас я быстро уставал. Ничего, благодаря тренировкам через несколько месяцев мышцы окрепнут, и я всем местным хамам навешаю тумаков.
За занятием проверки прибора в действии нашу троицу застал Лангман. Осмотрев наше творение, произнёс:
– Господа гардемарины, чем это вы занимаетесь?
– Испытываем прибор "Дальномер Михайлова, версия №1", господин лейтенант.
– И как успехи?
– Отменные, погрешность на сотне метров – не более метра, и то по причине неточности конструкции.
– А какова дальность дальномера?
– Насколько видит глаз человека.
– Показывай, Михайлов!
– Выберите объект.
– Водонапорная башня.
Установив прибор на метровую треногу с ровной площадкой, сделанной местным плотником из брусков и разделочной доски, замерил, сверился с таблицей дальности и назвал цифру 100 метров.
– Каких метров?
– Французских, как наиболее точных единиц измерения (Я совершенно забыл, что французы введут метрическую систему в 1790-х годах).
– Не слышал о такой. А в футах это сколько будет?
– Фут примерно равен 30,5 сантиметрам, то есть метр будет длиннее в 3,3 десятых раза.
– 330 футов, значит. Хорошо, Михайлов, пойдёмте проверять.
Мы измерили, после чего офицер воскликнул:
– Якорную цепь мне в одно место, точно! А ну, давай, измерим до казармы.
Я установил прибор вновь, произвёл замер и вычисления по таблице.
– Это будет примерно 540 футов.
– Пошли мерить.
В итоге все вместе мы провели ещё десяток испытаний, затем Лангман лично провёл замеры и вычислил длины. Погрешность на расстояния до километра была не более 5 процентов.
– Возможно, если выполнить всё из металла, то есть сделать конструкцию более жёсткой и точно проградуировать, погрешность уменьшится. У меня шаг пять градусов, а надо делать градус.
– А как ты градусы измерил?
– Как? Прямой угол с помощью карандаша и линейки разделил пополам, затем полученные углы в 45 градусов поделил на три части – получил сектора по 15 градусов, которые снова разделил на три части, вот пять градусов и вышло, а далее «на глазок» по градусу получил. У меня же нет другого измерительного инструмента и денег нет, чтобы купить готовальню с транспортиром.
– Так, Михайлов, погоди ты со своей готовальней. Это твои помощники?
– Так точно, господин лейтенант. Идея и расчёты мои, а парни помогали мне её проверить на практике.
– Давай сюда своё изобретение, и все ждите меня возле кабинета директора.
– Есть всем ждать.
Лейтенант убежал с инструментом, даже не поручив никому из нас тащить подставку, а мы переглянулись и потопали следом. Несмотря на то, что сразу после знакомства он прописал мне 30 розог, наш ротный был нормальным мужиком из военно-морской династии. С нами, нищими слушателями, он не выделывался и «через губу» не разговаривал. А к тем, кто хорошо учился или проявлял ещё какой-нибудь талант, относился с уважением. Через десять минут он вышел и пригласил всех нас в кабинет.
Нагаев так же был не кабинетным червём, а реально плавал по морям, занимался составлением географических карт. Довелось ему в нескольких войнах. Он сразу перешёл к делу:
– Показывайте ваше изобретение, господа гардемарины.
Мы снова вышли во двор и провели десяток измерений.
– Хм, надо же! Отменно, господа! Сие изобретение будет весьма полезно во флоте и в артиллерии. Надобно его в надлежащий вид привести, а после этого проведём полноценные испытания. А тебе, Михайлов, с твоими помощниками можно готовить документы на привилегию.
– У меня нет денег на оплату патента.
– Да-с? Ах да, я же сам запретил тебе подрабатывать в наших мастерских, дабы по неумению ты себе чего лишнего не отрезал. Если сей прибор пройдёт наши испытания, лично оплачу твою привилегию, гардемарин Михайлов.
– Так, может, я её и буду делать в мастерских или консультировать токарей?
– А руки не порежешь?
– Не порежу, вашвышбродь!
– Хорошо. Евгений Аристархович, организуйте изготовление в нашей мастерской с привлечением Михайлова и остальных помощников.
На следующий день мы втроём были допущены в мастерские, где вместе с грамотным токарем по имени Валерий Тимкин приступили к производству дальномера. Делали прибор из бронзы, чтобы не ржавел, а шкалу проградуировали до градуса. Я подготовил таблицы расчётов в футах и формулу пересчёта, которые Тимкин выгравировал на медных листах. В итоге прибор был представлен на суд начальства, а за неделю были сделаны ещё два экземпляра.
После этого нашей троице разрешили работать в оружейной мастерской: ремонтировать казённую часть мушкетов и пистолей, подзорные трубы и прочие механические изделия. Если можно было что-то сделать, мы исправляли, а если истончался ствол, то мушкет разбирали и ствол отправляли на переплавку. Кроме этого ребята отливали пули и готовили бумажные пыжи для стрельб. Нам дали план со сроками, который мы пытались выполнить. За работу каждому из нас «положили» жалование в 20 рублей в месяц. Это были хорошие деньги даже для матроса 1-й статьи.
Между тем жалование матроса 1 статьи было намного выше, чем у обычного. На военных кораблях любые матросы считались элитой, ведь кроме них там служили канониры и солдаты морской пехоты, которые воспринимались как грубая тягловая сила. В русском флоте 18-го века матрос первой статьи получал 24 рубля в месяц. Это было много! Оклад гарнизонного служаки начинался от 6 рублей. В полевом выходе рядовой солдат получал примерно 11 рублей в месяц. Сержант сухопутной армии (которых полагалось двое на роту, то есть на 120–150 солдат), получал 17–18 рублей в месяц.
К концу августа казармы наполнились гомонящими голосами: к началу учебного года съехались юные 12-летние новички с подготовительного курса, кадеты и гардемарины, среди которых попадались 16-летние вундеркинды и 25-летние лоботрясы. Так что в среде гардемаринов со своими 17-ю годами я был «молодым щеглом». На каждом курсе была рота слушателей численностью в 63 человека, состоящая из двух взводов, каждым из которых командовал наставник в звании мичмана или лейтенанта. Лангман был нашим комроты.
А затем начался учебный год. Кроме образовательных и специальных предметов очень много было шагистики. На плацу мы ходили парадным шагом и совершали всевозможные перестроения. Что было хорошо в этом деле, все мы по очереди командовали нашим взводом, приучаясь к тому, что «выйдя в люди», сразу могли управлять подчинёнными. Кроме строевых экзерсисов были тренировки с оружием, практика на макете мачты с парусами и занятия, требующие напряжения мозга: черчение и технические науки. Оказалось, что гардемарины учили французский язык. Наконец-то я дожил до изучения этого языка официально. В памяти Михайлова хранились некие знания данного языка, но не очень глубокие, я так же получил в своё время определённые знания этого языка, но говорил не идеально. Так что в отличие от знания ряда других европейских языков, моё "парле ву франсе" оставляло желать лучшего. И вот на занятиях по этому языку какой-то гражданский штафирка, который вёл у нас русскую и французскую словесность, опрашивал наши знания – не улучшились ли они, часом, за время каникул.
Разговор зашёл о заработке, и учитель выдал очевидность:
– Господа гардемарины, ежели вы не будете учиться, то вылетите с курса. И тогда вместо присвоения почётного звания офицера русского флота получите обычных унтеров, а то, вообще, придётся сидеть на паперти и просить милостыню, чтобы содержать семью. Кто переведёт фразу: «Месье, же не манж па сис жур". Вижу, что это будет Михайлов. Итак, гардемарин, ваша версия?
– Месье, можно, на жопе посижу?
– Как-как вы сказали? Оригинально. В целом смысл фразы вы передали точно, но это вольный перевод, а нужен правильный. Гардемарин Михайлов, ставлю вам кол. Кто переведёт фразу: «Дайте, пожалуйста, несколько копеек на кусок хлеба».
Тут я, вспомнил Кису Воробьянинова с его фразой и сделал примерный обратный перевод:
– Жё не па манже дёпюи сис жур.
– Так, снова Михайлов? Видно, что вы всё лето готовились просить милостыню. Ставлю вам четвёрку. Так сказать, исправлю ваш кол.