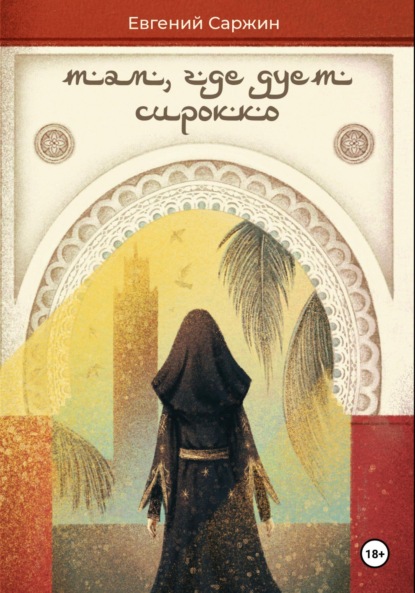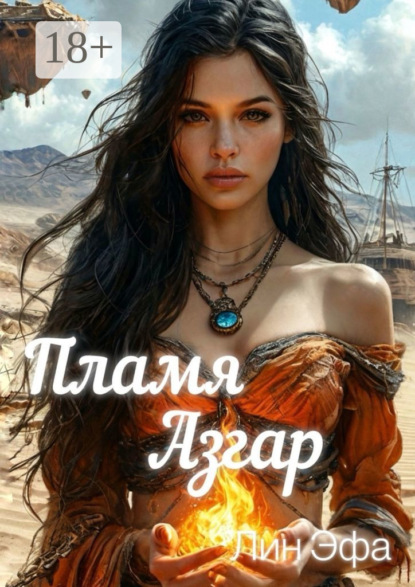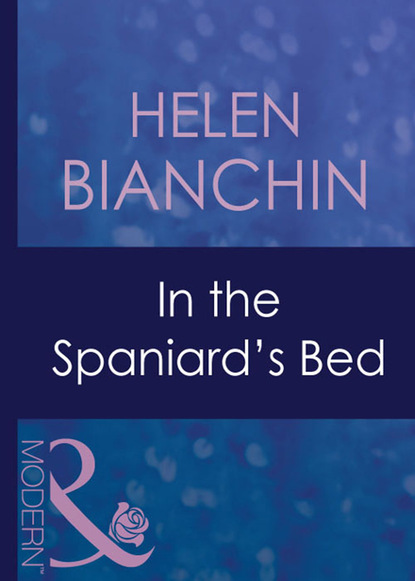- -
- 100%
- +
А потом его начал морить сон, и… он приказал принести ему чая! Замиль даже не могла рассчитывать на такую удачу, она ломала голову, как же дать мужчине пилюлю, перебрав все способы… а оказалось, всё так просто. Когда она протягивала изогнутый стаканчик, то видела, что её рука дрожит. К счастью, разум мужчины был слишком затуманен к тому времени, чтобы это могло его насторожить.
И самонадеянный дурак так и не додумался поставить пароль на свой наладонник! Её руки дрожали, когда она, одетая лишь в тонкий халатик, втыкала переходник и, не попадая пальцами по монитору, пыталась задать действие. Копировать. Что? Что здесь ценно? Да может, вообще ничего! Откуда ей знать? И она лихорадочно пыталась скопировать все – окошки диалогов, сохранённые в «сундучок» папки, какие-то картинки. Наверное, если бы в комнате раздался хоть малейший звук, сердце у неё бы разорвалось.
Но кроме сопения спящего мужчины не раздавалось ни звука.
Она знала, что едва ли заснет той ночью. Так и не заснула, конечно. Наутро, с чумной, противно ноющей головой, она проглотила кофе, едва почувствовав вкус, и сложила в голове некое подобие плана. Послать Джайду, встретиться с Салахом. Поставить перед ним условия, да… какие?
Сама не своя, она едва дождалась времени, когда им позволялось уйти по своим делам. Схватив Джайду за локоть, Замиль потащила её из байт-да’ара вдаль по улице. В небольшом скверике, как она и надеялась, не было никого, а значит, получится поговорить. Наладонник, лежавший в наплечной сумочке, казалось, прожигал ей ткань платья. Она впервые осознала, что это не просто устройства для разговора, но нечто, способное раскрыть о человеке куда больше, чем ему бы самому хотелось. Говорят, есть люди, которые вычислят твоё расположение просто потому, что он включён. Говорят, можно заставить устройство подслушивать твои разговоры, даже когда оно просто лежит рядом. Говорят… Хватит. Paranoia, вспомнила она слово из родного языка её отца и криво усмехнулась.
– Замиль, мне это не нравится, – повторила Джайда, присевшая на лавочку рядом с ней, – мне кажется, мы должны…
Уже потом она иногда вспоминала эти слова. Что же, интересно, они были должны с точки зрения робкой Джайды, которая жалась к ней, потому что боялась меньше всех остальных?
Ей так и не пришлось этого узнать, потому что на этом месте малийка осеклась, и подняла глаза. В крошечный скверик зашла Зуммарад – с закрытым лицом, но Замиль все равно её узнала, и обернулась по сторонам. Ей запоздало захотелось сжаться и залезть под скамейку, хотя она понимала, что прятаться уже поздно. Почему эта стерва приперлась сюда? Шла за ними следом?
Зуммарад двинулась прямо к ним, быстро обернулась по сторонам, и одним легким движением отцепила никаб. Ничего странного, так, действительно, легче говорить, а мужчин рядом нет, но Замиль этот невинный жест показался зловещим. Зуммарад не улыбалась, но, приближаясь, словно ощупала их подведенными лиловой тушью глазами. На Джайде не задержалась долго, зато на Замиль посмотрела в упор. С трудом, но та выдержала взгляд и даже заставила себя улыбнуться в ответ.
– Салам, Зуммарад, – сказала она, – рада тебя видеть.
– Я тоже, – Зуммарад улыбнулась, и Замиль не понравилась эта улыбка, – я хотела поговорить с тобой, но раз эта тоже здесь, тем лучше. Слушайте обе.
Под «этой» она имела в виду Джайду, но обращалась только к Замиль. Впрочем, неудивительно.
– Что-то не так, Зуммарад? – Замиль старалась, чтобы её голос звучал спокойно, но почувствовала, как стало вдруг тесно в груди.
– Смотря для кого, – женщина нехорошо усмехнулась. Она огляделась по сторонам, но видимо, решила не садиться и продолжала стоя:
– Ты крадёшь информацию с наладонников наших клиентов. Причём самых важных клиентов. Тех, которым легко приказать избавиться от почти любой из нас. Ты играешь в очень нехорошие игры, Замиль, и я пришла сказать, что тебе это не пройдёт даром.
В груди Замиль что-то оборвалось. Она слышала, как рядом охнула Джайда, но заставила себя не опустить взгляд.
– Что за сплетни ты слышала обо мне, Зуммарад? – спросила она, сама едва узнавая свой голос.
Зуммарад опять напряженно улыбнулась, и Замиль не понравилась её улыбка.
– Ты взяла с собой шнур для переброски данных в комнату к… к нашему гостю, дорогая. Зачем он тебе там был нужен? Привязать его руки к кровати, может быть? Говорят, есть мужчины, которым такое нравится. Но я знаю не только это. Например, знаю и то, что ты якшалась с этим мавританцем, который повадился к нам захаживать. И шнур для переброски данных тебе понадобился лишь когда ты поговорила с ним, а потом тебя отправили к… шейху. Замиль, ты правда думаешь, что все вокруг тебя слепые курицы вроде Джайды?
Она немного запнулась на слове «шейх» – видимо, до последнего не желала признавать, что знает, что за клиенты захаживали к ним. Бара наик, но кто же они такие и правда? Кровь стучала в висках у Замиль, и она поднялась с лавки, словно надеялась, что, стоя на одном уровне с Зуммарад, станет сильнее.
Та отступила на шаг и продолжала смотреть на Замиль с косой полуулыбкой.
– Если ты в чём-то меня подозреваешь, – у неё внезапно запершило в горле, и она скорее просипела, чем проговорила эти слова, – ты можешь всё сказать Зарият.
– Могла бы, – Зуммарад вдруг прекратила улыбаться, – могла бы, Замиль. И это бы плохо для тебя кончилось. Тебя бы выгнали – и это ещё в лучшем случае. В худшем – Зарият бы рассказала шейхам о том, что ты роешься в их наладонниках. И тут уж поистине только Аллах мог бы тебе помочь.
Она помолчала. Замиль судорожно пыталась придумать слова для дерзкого ответа, но язык и разум словно онемели.
– Помнишь, я сказала тебе, что за игры, в которые ты играешь, надо платить. И дорого. И ты будешь платить, Замиль. Мне. Если ты, конечно, не предпочитаешь платить шейхам, но они могут и не взять деньгами.
– Так ты хочешь денег? – Замиль почувствовала, как её сердце начинает гулко стучать, и не поняла, не то от гнева, не то от страха. Что ж, по крайней мере, Зуммарад ещё ничего не сказала Зарият. Значит она сможет что-то придумать.
– Но послушай, Зуммарад… – впервые подала голос Джайда, но та повернулась к ней, не дав договорить:
– Ты могла бы зарабатывать хорошие деньги своим личиком да черным задом, дорогая. Но тоже влезла в нехорошие дела со своей подружкой. Так что, Джайда, сказанное Замиль, сказано и тебе. И ещё…
Тут она повернулась к Замиль.
– Про мавританца забудь. Человек он тёмный и нехороший, нам не нужны проблемы с ним в байт-да’ара. Думаю, ему в любом случае недолго топтать Мадину, он чем-то очень насолил важным людям.
– Зуммарад, – хрипло сказала Замиль, – насчёт денег…
– Да? – женщина снова повернулась к ней.
Как странно бывает: мгновение, которое решает жизнь, а ты потом даже не можешь вспомнить и понять – как? Как случилось то, что случилось?
Когда Зуммарад повернулась к ней с плохо скрытой самодовольной усмешкой, Замиль уже встала как было надо. «Бьёт не рука, а плечо и весь корпус с поворотом, – всплыли в её голове слова Тони, – снизу, по самому краешку челюсти, как будто направляешь удар в самую середину черепа. Если ударишь правильно, человек вырубится». Правильно она ударила или нет? Что бы он сказал, если бы увидел? Глаза Зуммарад испуганно расширились, она приоткрыла рот, но вскрикнуть не успела – кулак Замиль ударил её как молот.
Уже потом, когда они ехали в Марсалу, она думала – а ведь на этот удар, изменивший её жизнь, она поставила все. Всё, ни о чем не подумав. А если бы Зуммарад успела закричать, позвать на помощь? Если бы завязалась драка, если бы за ними наблюдал кто-то, кого она не видела… много «если», при которых она бы погибла. Джайда, кстати, тоже, но о ней Замиль не думала.
Удача была на её стороне – зубы Зуммарад с хрустом ударились друг о друга, крик увял на её губах, не родившись, глаза закатились, и она завалилась на землю. Вскрикнула, на самом деле, только Замиль – удар обжег её кулак жестокой болью, ей даже показалось на секунду, что она сломала пальцы. Закусив губу, она кошкой прыгнула на упавшую Зарият и, сдернув здоровой рукой хиджаб с её головы, затолкала в рот.
– Что ты творишь, Замиль? Замиль, она же теперь всё расскажет! Нас выгонят, нас…
– Заткнись дура, – яростно прошипела Замиль и, убедившись, что отключившаяся Зуммарад не собирается кричать, посмотрела на Джайду, гримасничая от боли – мы и так уже пропали. Здесь, по крайней мере. Помоги мне привязать этот чертов платок, чтобы она не вздумала орать. Потом надо связать её. Ай, найек, мои пальцы…
Она отчаянно затрясла ушибленной при ударе кистью.
– Ты с ума сошла? – потрясенно прошептала Джайда, догадавшись, все же, понизить голос, – она все расскажет Зарият.
– Расскажет, да, – Замиль осторожно согнула и разогнула пальцы, кажется, слушаются, – но будет уже поздно. Все решилось, Джайда. Наши дни здесь закончены.
Марсала
Глава первая
Аль Джазира, как говорят правоверные, la Isola на языке назрани. Остров, настоящее название которого стараются не упоминать лишний раз. Один из самых маленьких вилайетов Даулят-аль-Канун, но словно очерченный морской лазурью мир, мир-в-себе. Уж ему пришлось чуток по Острову поездить – от шумной, крикливой, лицемерно-лощёной Мадины до сонного Агридженто, от орудийных вышек над северным проливом до рыбных рынков Марсалы. Но разве он знает его целиком? Разве вообще хоть кто-то знает?
И как же так вышло, что он, простой парень из Херглы, связал с ним свою судьбу? Впрочем, велик Аллах, и ни один человек не знает, что ему предначертано Созидающим. Теперь это его дом, а родная Хергла изменилась до неузнаваемости, затопленная человеческой волной из жарких глубин Африки.
Да и здесь тоже пёстрый люд с половины мира: назрани, старые люди и вместе с ними его земляки-магрибцы, и выходцы из Сахары, говорящие на гортанном наречии Махди, и чернокожие, курчавоволосые дети тропических лесов. И что самое удивительное, они даже уживаются вместе. Те, кто принял учение Махди, те, для кого единственной опорой остаются наставления пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кто носит на груди знак веры в Иса-бен-Мариам27. И даже те, кто тайком жжёт в домах вонючие свечи, призывая в помощь мерзких демонов из влажных джунглей (да, все знают, что есть тут и такие).
И он судит их и мирит, говорит с ними по-арабски и по-итальянски (выучил-таки, благо с детства знал и французский), старается, чтобы их жизнь – жизнь людей, выросших на обломках Великой Войны – была спокойной и безопасной. Ведь этот Остров, этот город теперь и его дом.
И даже больше, чем дом – земля, за которую он в ответе. Нет, не все роисы, конечно, думают так – чаще смотрят на свою должность просто как на тёплое место, заняв которое, можно не думать о завтрашнем дне. Но он не может заботиться только о собственной заднице. Глупо, конечно – но уж таким его сотворил Аллах.
Стефано не считал себя стариком даже несмотря на угрожающе разраставшиеся залысины над висками. Скорее ему нравилось думать о себе как о зрелом мужчине. Так откуда же эта странная тяга к стариковским философствованиям и утренним прогулкам? У него, рыбака, человека дела? И тем не менее всё чаще, в те дни, когда не было необходимости выводить «Грифона» в море, он поднимался спозаранку, принимал холодный душ, а потом просто шёл по Виа Цицероне, сворачивая затем на Виа Исоле Эгади, и так до самого моря. Конечно, на табличках висели уже совсем другие названия, но большинство «старых людей» не трудилось ломать о них язык. А в Марсале они пока ещё составляли большинство (как надолго?).
Иногда он останавливался у Леопольдо, чтобы пожелать доброго утра и в два глотка, стоя, выпить его ядрёный эспрессо. А потом шёл опять, всё дальше и дальше. И думал.
В его жизни, пропахшей рыбой и машинным маслом от двигателя катера, было место книгам, хотя не все, кто были с ним знакомы, могли бы в такое поверить. Он читал, как иные пьяницы пили – редко, но запоями. И, как и пьяницы, долго смотрел потом на окружающий мир осоловелыми глазами, пытаясь понять, где он и что он.
А вокруг была та же Марсала – город, который знал финикийцев и их детей карфагенян, римлян, остготов, арабов, норманнов, Сицилийское королевство, единую Италию, Европейский Альянс и вот… снова арабов. Это Стефано тоже почерпнул из тех книг, что удавалось добыть. Он давно уже перечитал всё, написанное по-итальянски, что смог найти в бумаге, и был уверен, что никогда не привыкнет к чтению с экранчиков, как то делало всё младшее поколение. Ну, как «всё», те из этого поколения, кто читал, конечно, и не то, чтобы их было так уж много. Но вот же – необходимость победила, и крошечные, «пальчиковые», как их тут называли, диски, что привозили бородатые муташарриды (надо, кстати, ещё заказ Салаху сделать), открывали для него то, что крылось за истоптанными с детства камнями родного города. Потому что во время своего последнего «запоя» Стефано читал книги по истории Острова. Да, финикийцы, остготы, норманны… а вот и второй раз арабы. Но если Марсала пережила их тогда, то, может, переживёт и сейчас? Если…
– Доброе утро, Ситифан! – ворвался в его размышления глубокий женский голос, и Стефано поднял голову.
Он, задумавшись, забрёл на Джованни Берта и сейчас стоял возле двухэтажного панельного дома с открытыми балкончиками и грубым изображением пальмы на вывеске. На балконе первого этажа стояла женщина, чернокожая, высокая, полная, задрапированная в просторное платье кремового цвета, словно нарочно под цвет панелей. В одной руке она держала дымящуюся сигарету, на предназначенном для цветов держателе перил стояли пепельничка и чашка кофе.
– Доброе утро, Таонга! – махнул ей рукой Стефано. – Как идут дела?
Таонга затянулась и выпустила дым, её полные губы были подведены фиолетовым, придавая черному лицу немного гротескный оттенок.
– Не так плохо, альхамдулиллах, – ответила она наконец, – пансион заполнен наполовину, а значит, я ложусь спать не голодной.
«Это заметно», – подумал Стефано, но вслух спросил:
– Гости из Мадины?
Женщина чуть приподняла массивные плечи и качнула головой, луч солнца блеснул на её волосах, зачёсанных вверх на три пальца.
– И оттуда тоже, как не быть… но не только. Местечко у нас хорошее, людям нравится проводить здесь время. Почему нет?
«Потому что это один из немногих уголков Острова, где всё осталось по-старому», – вертелось на языке у Стефано, но он только пожал плечами:
– Местечко хорошее, да, но я не люблю, когда весь этот народ… топчется по пирсам, пока мы чалим суда. От их галдежа рыба тухнет.
Таонга улыбнулась, сверкнув белыми зубами:
– Вся не протухнет, что-то да останется. Зато рестораны заказывают втрое больше обычного, а значит, и спрос на рыбу растёт. Аллах не любит тех, кто жалуется.
«Мунафиков28 Он тоже не любит», – мрачно подумал Стефано, но только кивнул, вскинул вверх руку с двумя сжатыми пальцами и, бросив «хорошего дня», медленно двинулся дальше к морю.
Владелица пансиона «Аль Мусафир» вызывала у него странные и большей частью неприятные чувства. Не потому, что африканка – по крайней мере, ему нравилось думать, что не поэтому. Просто Таонга, даже чёрная, была из «старых людей», и он знал её в старые времена и даже близко, да. И её чёрное тело было весомым (и ещё каким весомым) напоминанием того, как изменилась жизнь в Марсале в течение всего одного поколения.
Родители Таонги приехали на Остров с одной из последних волн эмиграции, до Большой Войны и конца старого мира – из Нигера, кажется. Или из Нигерии? Да какая разница. Они, африканцы, оказавшиеся на Острове, поначалу честно пытались приспособиться. Болели за «Спортклуб Марсала», ходили на мессу по воскресеньям, жертвовали на нужды местной церковной общины, называли своих детей католическими именами… Он хорошо помнил и тогдашнюю Таонгу, которая ещё откликалась на имя Албина. Она училась в той же школе, что и он, но младше на два класса. Была молодой да ранней, в отличие от её родителей, всегда выглядевших так, как будто извинялись за то, что тут поселились. Но Албина ни за что извиняться не собиралась. Первой из своих сестёр она начала носить мини-юбку, первой стала открыто курить на входе в молодёжный клуб и, сверкая безупречными зубами, пересмеиваться с марсальскими мальчиками. Первой и дала понять, что белые юноши ей вовсе даже не неприятны. О, как ясно он помнил тот день, когда попробовал её – когда тебе девятнадцать, такое не забывается. Стефано тогда работал сортировщиком в порту, а Албина, бросившая школу – официанткой в местном баре. Уже задули ветра перемен, чёрные, как её африканская кожа, но не о переменах думал он, когда затащил её в комнатушку за баром «Альберто», впился в мягкие губы и едва не сломал в спешке змейку на её мини-юбке. Тогдашняя Албина, хоть и ещё с крестиком на груди, была горяча, как разогретая летним солнцем брусчатка Пьяцца ди ла Република.
Потом она намекнула ему, ещё не остывшему от страсти, что работает тяжело, её отец беден, а мать умерла, и… и Стефано понял, что дело было не в том, что он ей так уж приглянулся. Позже он узнал, что немало парней из портового района захаживало в «Альберто», чтобы помять в душной комнатушке её роскошные ягодицы и почувствовать себя настоящими macho. Но что с того? Жизнь ведь и правда не сладка у дочери иммигрантов, а концы с концами сводить надо.
Но, как выяснилось, помимо знойного африканского тела у Албины был ум – вёрткий и шустрый, мгновенно чуявший, откуда дует ветер. В хаосе дней Газавата, когда на севере росли грибы ядерных взрывов, а над мусульманскими кварталами Палермо взвились знамёна с чёрным солнцем, она сориентировалась быстрее, чем другие, появившись однажды на улице в длинном платье африканского покроя. «Албины нет, да и никогда не было по-настоящему», – объявила эта девушка двадцати лет отроду. Она Таонга, истинная дочь Африки, и свет на дорогу перед ней пролило учение великого Махди.
И больше всего Стефано разозлило то, что это было лицемерие с самого первого дня. О, нет, многие, конечно, подхватывали заразу по-настоящему. Дети переселенцев, которые росли как обычные марсальские ragazzi29 – подпирали спинами стены портовых баров, гоняли мяч, сколачивали юношеские банды и дрались вечерами – теперь слушали проповеди безумного пророка и ещё более бесноватых имамов и менялись на глазах. Их взгляды становились острыми и хищными, речь – тяжёлой и обрывистой. Даже походка, как он замечал, менялась. Вчерашние рыбаки, официанты, просто гопники вдруг начинали мерить улицы Марсалы тяжёлой поступью полицейских. Они теперь носили африканскую одежду, а самые ярые даже вывешивали из окон зловещий флаг с восходящим чёрным солнцем.
Такой ли стала и Албина-Таонга? Нет и нет – тут у него сомнений не было. Она постелила в приемной своего пансиона коврик для намаза, она куталась в не то малийское, не то нигерийское платье, водилась с чёрной и магрибской молодёжью, слушая их яростные речи и льстиво поддакивая. Но стоило ему увидеться с ней наедине, заглянуть в глаза, услышать, как и что она говорит, и всё встало на свои места. Таонга осталась всё той же, какой он знал её со школы – лукавой, вёрткой, неравнодушной к мужчинам и деньгам дочерью бедных иммигрантов. Просто изменился мир вокруг – и она под него подстроилась. А он, Стефано, меняться не захотел.
Глава вторая
Африка. Она часто повторяла это слово и себе, и другим. Таонга, истинная дочь Африки, рождённая в Африке, горячая и чёрная, ибо плоть от плоти горячей и чёрной африканской земли. Но что она, в сущности, знала о ней?
Ей было три годика, когда их семья покинула Кадуну, нигерийский городок, где она родилась, и где выросли родители, и в свои нынешние сорок шесть Таонга уже не могла точно сказать, что в её памяти правда, а что – ложный отзвук снов. Кажется, однажды она игралась на усыпанной картонными коробками улочке с тряпичной куклой и ударила голопузого мальчика, который хотел её отобрать. А еще ела какие-то фрукты – название теперь никогда не узнать, но они были кисло-сладкими, и она вгрызалась в мякоть, а щеки и подбородок были липкими от пота. И потом ей было плохо, от этих ли фруктов или других, и она сидела, скорчившись, над кучей мусора и стонала.
А ещё, кажется, было много мух. Или это были не мухи, а, скажем, осы? Или мухи, но не в Кадуне, а где-то ещё? Она уже ничего не могла сказать точно. «Таонга, истинная дочь Африки», как она представлялась мужчинам из Ордена Верных, Африку не помнила и никогда там не бывала с тех пор, как ступила нетвёрдыми детскими ножками на баркас в Ла Марсе.
Она много слышала об Африке с тех пор – о том, как всю её северную часть сковала воля Махди и знамя с восходящим солнцем, о том, как в бывшей Дагомее вырос огромный Котону – Вавилон под тропическим солнцем, где сталкивались сразу несколько миров, как во влажных лесах Конго вернулись к древним обычаям и едва ли не людоедству. Рассказы об этом вызывали в ней странное, необъяснимое даже для себя волнение – но она никогда не порывалась посмотреть, как же там, все-таки, по-настоящему. Она больше не бывала в Африке. Нет, иногда посещала Магриб по делам, конечно – обычно Тунис или Сус, хотя раз доезжала и до Алжира. Но это ведь совсем другое. Ту, настоящую Африку Таонга покинула в свои три годика навсегда.
Но Африка не покинула Таонгу.
Начать хотя бы с имени. Родителям еще в Кадуне христианский пастор велел назвать её Албина – они так и сделали. Себя они тоже звали христианскими именами, а, оказавшись здесь, отказались и от фамилий на языке иджо и взяли безликие итальянские. Они хотели порвать все связи с Африкой. Иногда ей, уже взрослой, казалось, что, если бы могли, они бы соскребли с себя и чёрную кожу, как клеймо своей прежней земли, земли крови и нищеты.
Но и их тоже Африка покидать не желала. И когда её мать всё-таки умерла в городской клинике (отец восторгался тем, что её там лечат бесплатно, даже когда стало понятно, что ничем эти хвалёные белые врачи ей помочь не могут), Африка вернулась к ним в дом.
В день после похорон она пришла домой из бара, где подрабатывала – незаконно, ибо ей было всего шестнадцать – и увидела висящий на двери пучок трав, ломоть хлеба на тарелочке и стакан молока, стоящие на кривом столике. На распятие, освящённое в местной церкви, отец тогда даже не смотрел – вместо этого тщательно окуривал дверной проём какой-то дымящейся веточкой и бормотал непонятные слова на позабытом ею языке.
И Албина поняла, что Африка по-прежнему здесь и никогда не покинет их до конца.
Прошла ещё пара лет, и мир начал меняться, или, как некоторые считали, разваливаться. Пришла война, даже нет – Война. Та, первая, сути которой Албина не понимала. Её начали большие люди, слишком богатые, чтобы быть разумными, и она видела, как жмутся друг к дружке мужчины в кофейнях и портовых барах, как переговариваются, понижая голос, как дрожат их руки и бегают глаза. Казалось, из них всех разом вытащили тот стержень, который позволял им быть мужчинами – пить ядрёный кофе и терпкое пиво, травить сальные анекдоты и щупать женщин. Теперь эти суровые, самодовольные белые мужчины напоминали нашкодивших детей, которые гадают, как теперь накажут родители. Их мир трещал и шатался, и Албина навострила уши.
Она не любила читать, вернее, не понимала, зачем это нужно, а от школьных уроков больше помнила хихиканье на задних партах и обмен пошлыми картинками через телефоны, чем то, что (без особого, впрочем, энтузиазма) пытались ей втолковать вечно усталые учителя. Но ей и не надо было знать историю, разбираться в политике или понимать экономику, чтобы чувствовать – грядут перемены. Большие перемены. И её сердце тревожно ёкало от предвкушения.
Албина уже успела понять, что та жизнь, которая так впечатлила её африканских родителей – настоящий дом, свой, хороший, настоящая школа и больница, всё как у других – это лишь жалкие крохи того, что может предложить мир за пределами Африки. Она, Албина, которая одевалась по-европейски, думала по-итальянски, а ругалась на сочном сичилиано30, смотрела на всё это уже не как африканская беженка. Их «настоящий дом» – просто бедная коммунальная квартира, их новая жизнь – прозябание в бедности, где они каждый месяц рассчитывают, как не потратить больше, чем у них есть, и всё равно постоянно залезают в долги. И другого у неё не будет. Жалкая социалка, чтобы не помереть с голоду, либо не менее жалкая работа официанткой или продавщицей. Или – она рассматривала и этот вариант тоже – торговля тем, чем так щедро одарили её предки (собственно, тело было единственным её стоящим внимания африканским наследством).
Но это старый мир, а как насчёт нового мира, того, который нарождается прямо на их глазах? Не найдётся ли там для неё местечка посытнее? И Албина тайком от отца начала захаживать на собрания африканцев, где вместо прежнего вялого муллы проповеди читал суровый, крепкий мужчина средних лет с чёрным кольцом на пальце и чёрным же значком-солнцем на вороте галабии. Он говорил попеременно на итальянском и арабском, Албина понимала далеко не всё, но главное ей стало ясно. Новая вера – и вместе с ней новая власть, новый мир, новые возможности – идёт из Африки, её родной земли, которая до того оставалась для неё лишь краем смутных детских грёз.