Интимная культура Руси
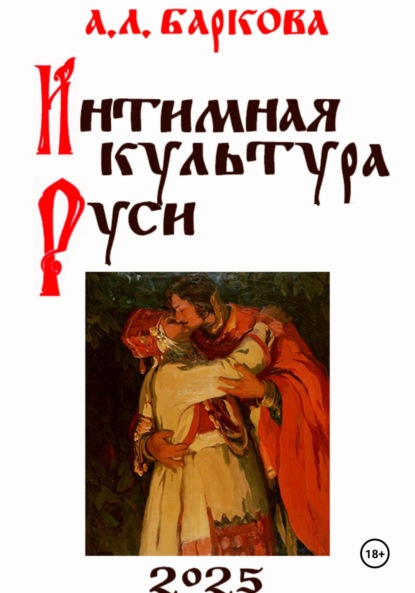
- -
- 100%
- +

Эта книга основана на курсе лекций
Вступление
Для начала я скажу вам довольно шокирующую вещь. Мы обозначили этот курс как интим на Руси, или более интеллигентно – "Интимная культура Руси". Но по сути своей такое название курса – все равно что "безалкогольная водка".
У нас слово "Русь" трактуется, я бы сказала, интуитивно понятно. И мы в это слово валим:
–во-первых, всю допетровскую Русь с древнейших времен до Петра Первого, когда она становится Россией;
– во-вторых, русскую народную культуру, которая нам известна по записям в основном конца 19 века и в меньшей степени начала 20-го.
То есть понятие "Русь", которое у нас приятным образом доходит до начала 20 века – это первая терминологическая проблема. Потому что именно терминологически это не корректно, но интуитивно понятно, иначе название будет слишком длинным.
Но еще большая проблема с названием курса – это слово "интим".
Секс мы будем прямо называть сексом, это очень четкая терминологическая установка. Когда я захочу говорить про секс, я буду говорить про секс.
Что мы будем называть словом "интим"? Собственно интимное, то есть происходящее между двумя сексуальными партнерами и не допускающее посторонних глаз. Интимное – это личное, закрытое от посторонних.
И вот вам первый спойлер: в этом смысле из понятия "интим на Руси" у нас вылетает вся народная культура. Секса в народной культуре, мягко говоря, много, но интима там практически нет.
Второй вопрос, что у нас возникла в 90-е годы прошлого века проблема: слово "секс" тогда еще не было нейтральным, и возник термин "интим" как его эвфемизм. Я помню еще те времена, когда "интим" означало не секс. Но без возвращения слову "интим" изначального смысла мы просто не сможем разговаривать.
Часть 1. Варяжские страсти
Когда я готовилась к этому курсу, я его мысленно весь прокручивала, и стало мне чрезвычайно печально. Потому что ну ок, у нас есть "Слово о полку Игореве", где, несмотря на то, что общее содержание произведения, мягко говоря, не любовное, все ж таки мы про любовь находим довольно много приятного, разного и увлекательного. Хорошо.
А что у нас еще будет про любовь? Петр и Феврония? Это совсем не про любовь в нашем с вами понимании, что и приводит к проблеме этого текста. Какие-нибудь там плутовские повести 17 века? Ну нет.
Письмо Татьяны к Онегину, конечно, про любовь. Но при наших определениях понятия "Русь" оно не входит в понятие "секс на Руси", "интим на Руси", "любовь на Руси" – иными словами, оно просто не влезает в наше понятие "Русь".
Ну хоть что-нибудь у нас, в родной культуре, есть про любовь?
На этот вопрос есть положительный ответ. Я могу даже сузить вам поиск и сказать, что это произведение русской народной культуры. Правда, там описывается не любовное томление, не Ромео и Джульетта и тому подобное. Но действие разворачивается, безусловно, между молодым мужчиной и молодой женщиной, и их чувства, несомненно, являются любовью, и эта любовь проявляется в действиях. И по их поступкам мы совершенно четко знаем, что они действительно глубоко, горячо, сильно любят друг друга.
И я бы сказала, что на фоне того, что нас ждет на этом курсе, это произведение, вам великолепно известное – настоящая отдушина, не знаю как для мужских сердец, но для женщин точно.
Что же это за произведение, прекрасно вам известное? Еще раз подчеркну, что любовь там выражается не в серенадах, не в конфетно-букетном проявлении, но в весьма решительных, я бы даже сказала, радикальных поступках. Ваши варианты?
Нет, не частушки. Частушки – это такая гнусная похабень. К тому же частушка как таковая – это очень любопытное произведение в смысле его положения в фольклоре. Она тесно связана с городским фольклором.
Сказка "Финист ясный сокол" – это хороший ответ. Но "Финист ясный сокол" – это история, приятная сердцу женщины, и достаточно феминистическая. Потому что и образ героини, которая выручает героя, и образ спящего красавца не очень стандартны.
А мне, пожалуйста, сказку с совершенно нормальными ролями, нелюбезными сердцу феминисток, более тру-гендерными, где основная активность принадлежит мужчине. Мы ищем текст, где мужчина любящий, активный, готов ради женщины свернуть горы, женщина любящая, активная, но не активнее мужчины.
"Сказка о царе Салтане"? Это не русская народная культура. Это авторский текст. Причем больше того: кто слушал мои лекции или читал мою книгу по славянской мифологии, знает, что лебедь в русской народной культуре (и не только в ней) – это очень трагический образ, как раз свадебная лебедушка нам совершенно не в тему. И Пушкин был, по сути, первым, кто снял с образа лебеди народный ореол трагичности. Поэтому "Сказка о царе Салтане" не годится. Но нам нужен народный эквивалент "Сказки о царе Салтане".
Искать надо в сказках. Отдельная тема, что все сказки имеют примерно мировые сюжеты, и Золушка известна по всему миру, вплоть до Китая. Там, впрочем, это мальчик, но это мало меняет дело.
Мы ищем русскую сказку, в которой находится та любовь, которую мы называем любовью. Эта сказка должна быть построена на принципе квеста, и это сказка с героиней-волшебницей, тип мудрой девы, которая достаточно активна.
Так что это за сказка? Вопрос для младшей группы детского сада.
"Царевна-лягушка". Вот идеальная русская история о любви. Если я говорю, что сто процентов из вас знают этот текст, я не имею в виду "Марью Моревну", которую могут знать не все. "Марья Моревна" – это для продвинутых.
"Царевна-лягушка" – отдых душевный для нас с вами. И этой благости больше практически нигде не будет.
"Аленький цветочек" – сказка европейская, "Красавица и чудовище", которую Сергей Аксаков просто переписал в русском стиле.
А "Царевна-лягушка" вполне отечественная. И это – эталон именно любовных отношений.
Будь как Иван-царевич
В "Царевне-лягушке" – очень интересный ход. То, что герой ищет себе невесту вслепую – это очень хорошее воплощение представления, что брак – никак не интимное дело. Брак, особенно союз знатных людей, построен на чувстве долга. Выбор невесты с завидной регулярностью – это дело не женихов, а их отцов, и чем выше социальный уровень, тем регулярнее. Вот и в "Царевне-лягушке" царевичи женятся по указке отца.
Дальше идет гигантский мифологический комментарий, который не входит в этот курс, почему надо было выбирать невест столь экзотическим образом. Но заметим, что Иван-царевич – абсолютно стопроцентный идеал. Он верен долгу. Велено жениться на той, к кому прилетит стрела, – он готов жениться хоть на лягушке, и именно за демонстрацию своей верности социальным нормам он получает награду. Точно так же, как Золушка, которая должна быть кроткой, это тогдашние социальные нормы. Она следует социальным нормам – она получает принца.
Иван-царевич следует социальным нормам. Будь, как Иван-царевич, и окажется, что внутри твоей лягушки сидит самая распрекрасная раскрасавица.
Она проявляет всю необходимую социальную активность, тоже вполне образец для подражания, он, заметьте, проявляет личную свободу воли, сжигает ее кожу, все хорошо. Потом все оказывается не очень хорошо, потом он ее добывает…
Понятно, почему на этой сказке мы все воспитаны. Там абсолютно каждый элемент очень жизнеутверждающий и носит воспитательный характер.
На примере "Царевны-лягушки" мы прекрасно узнаем, что в мире есть любовь, и больше того – за любовь надо бороться. Я бы сказала, что "Царевна-лягушка" – это воплощение, конспект наших представлений о любви.
И заметьте очень важный момент. Европейская культура сосредоточилась в основном на любви внебрачной. Это может быть любовь добрачная или же супружеская измена.
Два основных цикла рыцарских романов, "Тристан и Изольда" и "Король Артур", построены на идее адюльтера. Об этом мы будем говорить позже в связи с "Анной Карениной". Вы не знаете ни одного масштабного произведения западно-европейской культуры, которое было бы посвящено такой экзотике, как любовь супружеская.
И именно супружеская любовь оказывается в центре русской домонгольской культуры. По крайней мере, именно ей оказываются посвящены любовные аспекты в "Слове о полку Игореве". И в "Молении Даниила Заточника", о котором мы тоже будем сегодня говорить, будет образ отношений жены и мужа.
В стандартной сказке ищут невесту. В хорошем русском сюжете мы говорим о чувствах между мужем и женой.
То, что сюжет "Царевны-лягушки" связан с возвращением жены, и в "Марье Моревне" герой возвращает жену, – это, я бы сказала, характерно русское явление.
И тут я, так сказать, сильно задрала нос, потому что кто читал мои художественные тексты, тот знает, что я обожаю писать про различные виды супружеской любви и прописывать страниц на много сцены супружеских постельных отношений.
Я хотела употребить слово "секс", но поняла, что оно будет здесь неточным. Секс – это половой акт, предмет эротического романа, за этим не ко мне, а вот постельные отношения – это очень интересная штука. Это все, что происходит с супругами в постели, а там много всего происходит, кроме секса. И прописывать супружеские постельные отношения я очень-очень люблю. Этак страничек на пять на одну ночь, им было чем заняться, в том числе и сексом, чего ж нет.
В этом смысле я сначала считала себя экзотикой, потом поняла, что нет-нет-нет, я нормальный русский писатель. И несмотря на то, что я с одиннадцати лет знаю "Тристана и Изольду" я оказалась стойкой к иноземным влияниям и их любви к адюльтеру.
Начиная с Нестора
Мы с вами начали с хорошего, чтобы потом перейти к плохому и очень плохому. Поэтому, когда вам станет тошно, вспоминайте "Царевну-лягушку" и думайте, что все не так ужасно. Потому что к плохому и очень плохому мы перейдем прямо сейчас.
Итак, у нас есть три абсолютно разных типа культуры. Первый – это, как я уже сказала, русская народная. И здесь очень любопытная есть цитата из Нестора. Утруждать вас древнерусским или точным переводом я сейчас не буду, приведу на память: в "Повести временных лет" Нестор пишет, что поляне были очень хорошие, но были еще и древляне. Они умыкали невест у воды и жили с ними скотским образом.
Компетентные товарищи пишут, что "скотским образом" означало вполне определенную сексуальную позу, когда женщина стоит на четвереньках, а мужчина над ней сверху, как это делают животные. Эту позу мы изящно называем "повернуться спиной", а неизящно – "поставить раком". Называйте как хотите, поза от этого не меняется.
Эта поза всячески осуждалась, но не самым страшным образом, именно потому, что это совокупление в позе животных. И поскольку народная культура до черта сексуальна, но не интимна, совокупление скотским образом, то есть во вполне конкретной позе, – это категорически не личное дело супругов. И кстати, касается оно именно супругов, не добрачного секса.
Я вас хочу подвести к некультурному вопросу, хотя что в нем некультурного, нормальное изучение народной культуры: зачем супруги, русские крестьяне, совокуплялись в скотской позе? Почему это ни в коем случае не интимно?
Это не прилюдное действие. Но ритуальное. Его функция – для приплода, чтобы у тебя все хорошо множилось. В первую очередь множились животные, во вторую очередь был хороший урожай. Ты принимаешь меры продуцирующей магии и совокупляешься в скотской позе – все просто, ясно и понятно, это научным термином называется принцип симпатической магии. Интимности в этом нету никакой.
И когда Нестор пишет, что древляне жили скотски, есть серьезные основания полагать, что глагол "жить" может быть эвфемизмом к слову совокупляться. И по сути речь идет о том, что у них секс понимался именно как магические действия, необходимые для повышения плодовитости всего, что движется, и возможно, того, что не движется, то есть и скота, и урожая.
Это вам навскидку ближайший пример истинно народной культуры.
Почему я начала с Нестора? Чтобы вы восприняли тот простой факт, что Нестор отражает культуру десятого века, а использование соответствующей позы крестьянами для улучшения качества продукции зафиксировано исследователями в конце 19-начале 20 века. И мы можем говорить, что за отчетную тысячу лет вряд ли в народной культуре что-то радикально менялось.
Это хороший пример того, что в народной культуре секс – никак не интим. Практически всякий секс там поставлен в очень жесткое расписание.
И в связи с этим немножко пошокирую вас прямо сейчас: существует огромное количество названий деревень с матерными корнями, которые я не имею ни малейшего желания вам воспроизводить. Но интересно, что есть не просто какое-нибудь, пардон, Ебешино, но и есть название Неебешино.
Что это означает? Вполне возможно, что деревни с матерными корнями в названиях обозначали места, где проходили праздники типа Ивана Купалы, когда, естественно, секса очень много, но интима нет вообще, секс является санкционированным. Что означает название с приставкой "не"? Что секс санкционирован не здесь.
Я выдержу паузу, чтобы вам стало, я не знаю, хорошо или плохо, но чтобы вы себе представили эти названия русских деревень, как туристическую карту. Но она не для туристов, а для непосредственных участников.
Куда идти надо, чтобы заниматься сексом. Должны ли им заниматься все со всеми или более-менее попарно. Куда, наоборот, идти нельзя, потому что надо идти в другое место.
И после этого желание употреблять слово "интим" применительно к народной культуре у вас категорически отпадет. Она очень эротична, очень сексуальна, но абсолютно не интимна. И в таком качестве она просуществует тысячу лет. Это первая наша с вами составляющая.
Третья по хронологии составляющая, о второй позже, – это христианство. Очень подробно мы об этом будем говорить потом, а сейчас оговорим основные позиции. В идеале православие полностью было за воздержание, а супруги должны были жить в целомудрии.
"Тело свое в чистоте сберег до женитьбы, церковь свою сохранил святому Духу неоскверненной. И после бракосочетания так же тело в чистоте соблюдал, к греху непричастным", – сказано, к примеру, в "Житии Дмитрия Донского".
Но требование физического воздержания – это далеко не самое страшное, что в этом смысле несло в себе православие.
Почему я употребляю слово "страшное"? Потому что сексуальное влечение есть вполне естественное человеческое чувство. Секс как непосредственный физический половой акт может быть плохим, хорошим – в том смысле, в котором говорят "ночь была удачной", более-менее регулярным, от секса как непосредственного физического соития вы можете отказываться, не отказываться, все это – сугубо ваше личное дело. Но сексуальное желание, влечение, влюбленность – это в огромнейшей степени источник и творчества, и разнообразнейших сил, и самореализации.
И вы прекрасно понимаете, что гигантское количество несчастных любовей, то есть чувства, которое сексом никак не завершилось, несчастная любовь на то и есть несчастная, безответная, дало самые разнообразные шедевры мировой культуре.
Тот же Гете писал прямым текстом, что его первая несчастная любовь дала миру Фауста. И сколько еще этих несчастных любовей разнообразнейших было.
И поэтому если к идее целибата можно относиться по-разному, то идея подавления сексуальных желаний – это идея, которая корежит человека психологически, на гормональном уровне. И именно на желание, на что я обращаю ваше внимание самым серьезным образом, в первую очередь ополчались самые разнообразные христианские деятели. Мы будем с вами читать это в следующий раз, я сейчас не буду вас мучить этими цитатами.
Речь идет о том, что "плодитесь и размножайтесь" – это то, что Бог повелел людям, поэтому плодиться и размножаться положено, но без излишней страсти. То есть осуждался не сам секс, особенно супружеский, чего его осуждать, а осуждалась часто именно страсть между супругами. Иными словами, совокупляться нужно, но без чувств, без желания.
Я не сексолог и не знаю, как вообще мужчина может это все без желания делать, для меня это некоторая загадка, ну ладно. Но, как вы понимаете, женщина, которая обязана отдаваться мужу, не имея ни малейшего к нему влечения, – это просто ужасно и совершенно искорежено.
Более того, забегая вперед, православная церковь категорически осуждала эротические сны. Эротический сон – то, в чем следовало каяться на исповеди, получать за это очень жестокую епитимью и все такое.
Я, наверное, не скажу ничего удивительного для вас, но такие сны бывают в самом нежном возрасте. Эротические видения, эротические грезы возникают где-то лет с 12, а у кого и пораньше. Кто-то вообще рассказывает о том, что моя первая любовь была в детском саду, нам было пять лет, мы целовались в раздевалке. Такие истории не очень часты, но не единичны. И они оказываются категорически греховны.
Как мне совершенно справедливо пишут в чате, грехом считалось испытывать вожделение, в браке или нет, неважно. Все любовные чувства оказывались категорически под запретом.
И в итоге последствия мы пожинали вплоть до известной фразы в 90-е годы, сказанной на телемосте, что в Советском Союзе секса нет, которая, мягко говоря, удивила американцев. Там, конечно, полностью было сказано "Секса нет, есть любовь", но вы понимаете, что это категорическое подавление любовной культуры дало свои очень и очень нехорошие плоды.
А когда в послепетровское время любовная культура пошла проникать с запада, то она пошла проникать более или менее в форме адюльтера. И в итоге именно не связанные с запретностью любовные чувства у нас как-то в культуре не очень-то хорошо и представлены.
Это третья составляющая, о которой мы будем говорить.
И наконец, есть вторая составляющая нашей сегодняшней лекции. Культура, где любовь – это совершенно нормальное чувство. Причем это может быть любовь как добрачная, так и брачная. И самый яркий пример любовной страсти, который нас ждет сегодня, – это страсть именно между абсолютно законными мужем и женой.
Причем, что любопытно, чтобы вы не думали, что там все было очень высокое, там были и вещи низменные. Этот тип культуры подразумевал порнографию – эротические картинки.
Культура, которая в своих высших проявлениях дает нам потрясающие образы супружеской любви и супружеской страсти, а в низших проявлениях порнографию – это культура варяжская.
Любовь в Гардах
Относительно того, кто такие варяги, мы имеем два типа информации в "Повести временных лет". Во-первых, Нестор пишет, что послали за море к варягам, к руси. Я напомню, что в "Повести временных лет" слово "русь" пишется только с маленькой буквы и означает национальность. Единственное число от слова "русь" – "русин". И это же в "Русской правде" Ярослава Мудрого.
Итак, послали за морем к варягам, к руси. "Те варяги назывались русью, как другие называются свеи, а иные норманны и англы"… и так далее. То есть речь идет о народности северного происхождения.
С другой стороны, в той же "Повести временных лет" сказано, что славянский язык и русский язык един. Слово "язык" может обозначать "народ", и тогда мы говорим о тесной спаянности руси со славянами, может означать язык в лингвистическом аспекте, и тогда мы говорим, что переводчик им не требовался. По "Русской правде" Ярослава Мудрого это, в общем, довольно легко понять.
При этом какой-нибудь Константин Багрянородный, византийский император, давал название дрепровских порогов по-славянски и по-русски, и то, что он называл "по-русски" – это все исключительно скандинавские термины.
То есть варяги, они же русь как народ – это народность северного происхождения, собственно говоря, даже не народность, а некая культурная общность профессиональных военных, которые были наемниками в каком-нибудь Новгороде, где, говоря интеллигентно, князей звали на княжение, и которые попереженились на славянских девушках. И поэтому славянский язык и русский язык един.
Опять-таки я напоминаю банальности, что русское слово "князь" с точностью до звука с соответствующими чередованиями соответствует скандинавскому слову "конунг". Это просто одно и то же слово в скандинавской и славянской огласовке, как в современной речи "чо", "что" и "шта". Разные огласовки и даже количество букв, но слово-то одно. Не говоря уж о том, что ни "что", ни "чо", ни "шта" не соответствуют классическому произношению русского слова – "што". "Князь" и "конунг" – это та же история.
Каждая дружина нуждается в укрепленном гарнизоне там, где она стоит. По-скандинавски то, что укреплено, называется "гард", по-славянски "город", и отсюда Киев – мать городам русским, то есть укреплениям, возведенным этими самыми варягами, которые поддерживают порядок в славянских землях и славянами более-менее правят.
Напоминаю, что в "Слове о полку Игореве", которое мы будем цитировать многократно, упоминается, и не раз, русская земля. Но понятия "Русь" нет ни в каком качестве. И есть прекрасное слово "русичи", которое логично означает потомки руси. Оно ни в коем случае не обозначает всех людей, населяющих славянскую землю, – только профессиональных военных. "Дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи перегородили червлёными щитами".
То есть, когда мы применительно к домонгольскому периоду говорим о руси, мы имеем в виду культурную общность скандинавского происхождения, которая имеет большой опыт наемнической и не только наемнической военной работы на славянских землях. Русская земля – это, логично, земля, куда не надо приходить захватывать, потому что все, что можно захватить, уже прибрала к рукам эта самая русь с маленькой буквы.
Они поставили там свои крепости и, разумеется, повесили на ворота свои щиты в знак того, что эта крепость, эта местность находится под их охраной. Они грабят, но интеллигентно, то есть собирают дань с местных жителей. Дань – это такая культурная форма грабежа, которая устраивает примерно всех, это лучше, чем если тебя просто так ограбят. Они женятся на местных девушках, говорят на местном наречии, но вполне себе помнят свою родную речь, потому что рунические надписи сохраняются.
И вот варяги-то и оказываются носителями той самой приятной сердцу современной женщины культуры, где идет речь о взаимной любви.
Любопытна история, когда Ярослав Мудрый собирался выдавать замуж свою дочь Елизавету. Не Анну, про нее отдельный разговор. Про Анну знают примерно все, но у Ярослава вообще-то дочерей было в количестве, и среди них Елизавета.
Собирался он отдавать ее за норвержского короля, на север, в Скандинавию. Свадьба немного откладывалась. А поскольку викинги были такие интересные ребята, что поэзия у них была, мягко говоря, в почете, и умение складывать висы, то есть сочинять стихи, у них вполне себе нормальное, почетное дело, жених, Харальд Сигурдсон, обращается к своей невесте со стихами. Цитата из этих стихов стоит, чтобы ее привести.
"Герд золотого обручья в Гардах пренебрегает мной".
Герд золотого обручья – это поэтическое определение девушки, Гарды – это Гардарика, страна городов, которую мы, потомки, сейчас называем Русью, а они тогда называли русской землей.
По-разному трактуют эти строчки. Иногда говорят, что речь идет просто о любовном томлении. Другие крутят пальцами у виска: какое любовное томление может быть у викинга в 12 веке, речь идет о чем-то политическом… Тем более что автор стихов был позже прозван Суровым – и это на фоне собратьев!
Но неважно сейчас, что и как, важно, что любая женщина хотела бы получать подобного рода стихи от своего будущего мужа. И позже Елизавета и Харальд поженились.
Это действительно был период, когда внимание к чувству любви, и добрачной, видите, какая трагедия, в Гардах пренебрегает, и супружеской было характерной чертой русской культуры.
И пока мы не делаем примечание к слову "русской", все звучит просто совершенно замечательно. А потом мы вспоминаем Нестора, "Повесть временных лет", древлян, которые живут скотским образом, и понимаем, что когда мы говорим о домонгольской Руси, то мы очень четко противопоставляем, или сопоставляем, но все равно разделяем две культуры: русскую и славянскую.
В связи с этим я всегда очень люблю цитировать "Русскую правду" Ярослава Мудрого, который, как вы прекрасно знаете, заменял кровавую месть денежным штрафом. И что любопытно, он отдельно прописывал в "Русской правде", сколько надо платить за убийство русина и сколько – за убийство славянина. Суммы причем одинаковые, но разделы, в которых они фигурируют, разные. Никто не путал русина и славянина, все четко совершенно.
И домонгольская русская культура была этой самой культурой, отмеченной любовью.

