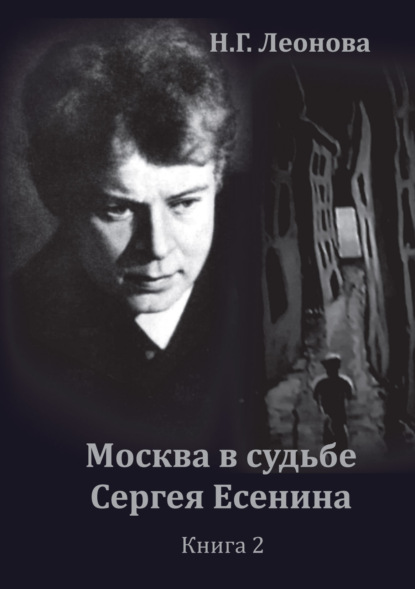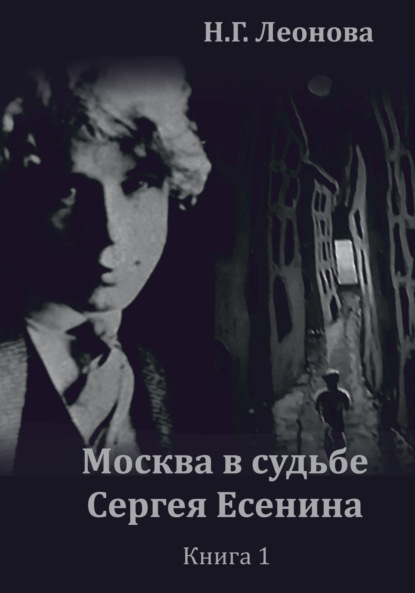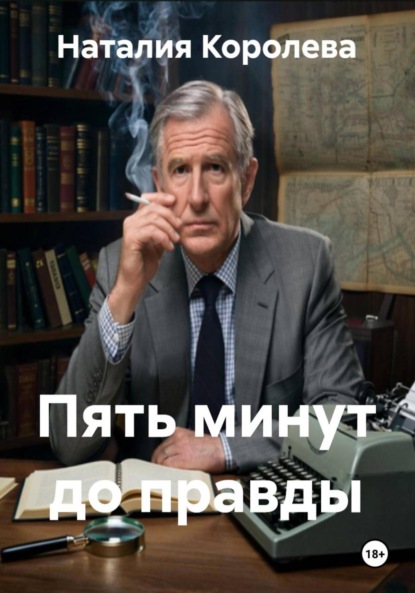Москва в судьбе Сергея Есенина. Книга 3
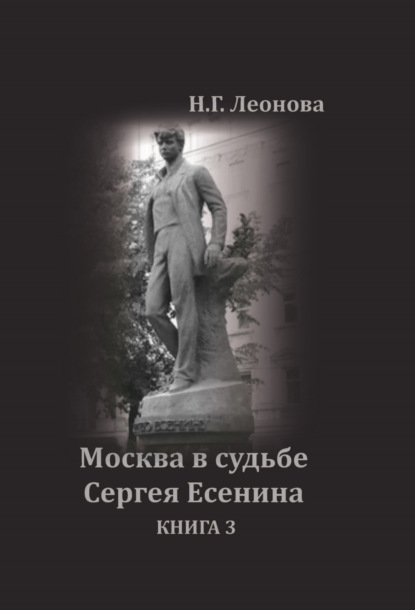
- -
- 100%
- +
В мае 1945 года супруги были определены в лагерь для перемещенных лиц. В 1949 году он был ликвидирован. С тех пор Погореловы проживали в домах престарелых в пригородах Мюнхена. Профессор ушел из жизни в 1955 году, Б.М. Погорелова в 1983. Оба похоронены в Мюнхене на Северном кладбище, в одной могиле. В Мюнхене Брониславой Матвеевной написаны лучшие ее работы, появившиеся в «Новом журнале» (Нью-Йорк). – «Валерий Брюсов и его окружение» (1953) и «Скопион» и «Весы» (1955). Замечательны портреты ее современников, с которыми доводилось близко общаться. Своеобразны, подчас, неожиданны ее характеристики.
Бронислава Матвеевна хорошо была знакома с Маяковским: он бывал на «Средах» Брюсова и посещал ее литературный кружок: «Этаким бесцеремонным верзилой шатался он целыми днями по Москве. Из кафе – в редакции, оттуда – по клубам и знакомым. Своими стихами пугал обыкновенных слушателей. Основным его занятием, и, как говорили, единственным средством к существованию была «железка». Производил впечатление не вполне сытого человека. Придя в гости, он жадно и без разбора поглощал все, что стояло на столе. Бросал в огромный беззубый рот пирожное, а за ним тут же – кусок семги, потом горсть печенья, а вслед за ним – котлету и т. д. Его друзья рассказывали, что одно время никакого постоянного места жительства у него не было. <…> Сыпал дерзостями направо и налево. Очень часто острил удачно, но с неизменной наглостью. <…>
Однажды зимой на улице мне привелось с ним встретиться. Он прямо изумил меня.
И не столько роскошной шубой, уверенным и спокойным выражением побелевшего и пополневшего лица, сколько улыбкой блестящих, великолепных зубов.
Вероятно, он подметил это мое изумление, так как сразу брякнул:
– Вас изумляют мои новые зубы? Да… революция тем-то и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно выбивает старые!»
А следующим воспоминанием Бронислава Рунт невольно опровергает сведения о том, что Ося Брик в ЧК был лицом незначительным и недолго:
«Таким мы знали Маяковского до большевистского переворота, после которого он, с целым рядом молодых писателей, учредил культурно-просветительную комиссию при московской чрезвычайке. <…> О Маяковском поговаривали, что у него крепкая, романтическая связь с молодой художницей, женой крупного чекиста. <…>
В самый разгар террора один старый друг моей семьи, накануне отъезда в Германию со специальным эшелоном, пошел проститься с друзьями. У них в квартире попал в облаву и был уведен в тюрьму. Все дело было в ведении МЧК, одним из главных воротил был тот самый следователь, у которого проживал Маяковский. <…>Я решилась отправиться к Маяковскому. <…>Кругом слякоть, понурые, убого одетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице и еще больше – в нетопленных квартирах. <…> Когда передо мной открылась дверь в квартиру следователя Б-ка, я очутилась в совершенно ином мире. Передо мной стояла молодая дама, сверкающая той особой, острой красотой, которую наблюдаем у блондинок евреек. Огромные ласковые карие глаза. Стройный гибкий стан. Очень просто и изысканно одета. По огромной, солидно обставленной передней носился аромат тонких духов.
– Володя. Это к тебе, – благозвучно позвала блондинка
Вышел Маяковский. В уютной, мягкой толстовке, в ночных туфлях. Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закурив, благосклонно выслушал меня. Причем смотрел не на меня, а на перстень, украшавший его мизинец. <…>
С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания Маяковский прибавил от себя:
– Очень прошу, Ося, сделай что возможно.
А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала:
– Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтобы вашего знакомого освободили.
Б-к, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку <…>
С этого острова счастья, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного menage en trios.
Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. И поэтому весть о самоубийстве Маяковского поразила меня».
Вернемся к «Альбому» Рунт Брониславы Матвеевны. Заполнение альбома было бессистемным, об этом говорит несоблюдение хронологии, отсутствие автографов многих известных личностей, с которыми подолгу общалась Бронислава Рунт – возможно, сказался импульсивный характер свояченицы Брюсова: в какие-то периоды она забывала про альбом, потом вновь о нем вспоминала.
Когда я работала над первой частью своей книги «Москва в судьбе Сергея Есенина», то искала доказательства посещения Есениным «Сред» В.Я. Брюсова, прямых не нашлось, только косвенное. У Шершеневича в «Великолепном очевидце» прочитала фразу: «Если Есенин говорил Кусикову, что он идет к Брюсову, то это всегда значило, что Сережа к Брюсову и не собирался, а хотел узнать: будет ли Сандро у Брюсова?» Потом нашлось и более верное подтверждение.
У Брониславы Рунт есть воспоминание о том, что в одном из литературных кафе в переулке близ Тверской она встречала, среди прочих, Есенина и Кусикова. Поскольку она посещала «Среды» Брюсова, которые посещали и эти два поэта, и особенно наличие автографов друзей Есенина в альбоме Б. Рунт – К. Большакова, В. Шершеневича, А. Кусикова и упоминание Георгия Якулова как завсегдатая «Кружка Рунт» в Дегтярном переулке,10, можно предположить более близкое ее знакомство и с Есениным, не зафиксированное, к сожалению, в ее альбоме.
Наслышанная о безмерном тщеславии А.Б. Кусикова и его желании прославиться «любой ценой» и «по блату», смею предположить, что он сам инициировал появление своего автографа в альбоме Брониславы:
Кони безногие
Отзвук ночи и звон зариПолусон переломанных линийС неба сыпались звезд глазыриВ дали кони безногие плыли.Липкий взгляд сквозь ресничный пробудВвысь арканом – о, стойте кони!..Но безногие в дали плывутИх никто, никто не нагонитА. Кусиков. 24.07.20Я не сожалею о потраченном времени на долгие поиски номера дома в Дегтярном переулке подвальной квартирки Брониславы Матвеевны Рунт, я сожалею о том, что не удалось визуально доказать знакомство поэта Сергея Есенина с такой интересной личностью, как свояченица В.Я. Брюсова Бронислава Рунт. Все впереди.
Иван Сергеевич Рукавишников
«Отщепенец» и «Белая ворона», отпрыск одной из самых влиятельных семей Нижнего Новгорода второй половины 19 – начала 20 века – богатейших купцов Рукавишниковых – Иван Сергеевич Рукавишников явно недооценен современниками. И Вадим Шершеневич, и Владислав Ходасевич иронизируют над его косноязычием, словно других, более достойных черт в его характере нет.
Острит Шершеневич: «Рукавишников всегда говорил трезво, но стоило вам прислушаться к тому, что он говорит, а не к тону его речи, и вы немедленно понимали, что это бред сумасшедшего. За всей этой трезвой логикой его рассуждений была какая-то грань попадания вникуда». Думаю, это не так. Поэт и писатель, написавший 20 томов стихов и прозы, говорил: «В России три категории людей: гении, жулики и лентяи. Гениям не хватает жуликоватости, жуликам – гениальности, а лентяи же надеются на гениев и жуликов». По-моему, вполне трезвая мысль.

И.С. Рукавишников
Шершеневичу вторит «муравьиный спирт», мой любимый поэт Владислав Ходасевич: «Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-а-азволил п-р-редложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо строить огромный дворец на берегу моря, или хотя бы Москвы-реки… м-м-дааа… дворец из стекла и мррррамора… и аллюмии-ния… м-мдааа… и чтобы всем комнаты и красивые одежды… эдакие х-х-хитоны, – и как его? это самое… – коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инстр-р-рументах, а кроме того, замечательная тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или – как ее там? – опера, то сейчас это все коллективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорации и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах».
Луначарскому, видимо, было неловко, он смущенно на нас поглядывал, но у нас лица были каменные. Когда Рукавишников затих, мы встали и ушли, молча пожав руку Луначарскому. С Рукавишниковым не попрощались».
А ведь идея создания Дворца Искусств, возникшая еще в Нижнем Новгороде у юноши-мечтателя, художника и поэта, и воплощенная в жизнь (с некоторыми поправками) при поддержке А.В. Луначарского в Москве 1919 года, в самом прямом значении этого слова поддержала, а кого-то и спасла, в суровые будни военного коммунизма.

Поварская, дом 52
Например, вечно голодную, бесприютную поэтессу Нину Яковлевну Серпинскую: «Анфилада дивных комнат со штофными обоями, старинным фарфором; концертные белые залы с мягкими креслами и золочеными диванами; уютнейший мезонин из нескольких низеньких комнатушек с расписными кафельными печками и лежанками; правое крыло полуподвала – были отданы Наркомпросом в распоряжение содружества людей искусства. Для приюта приезжающим писателям и художникам, для концертов, вечеров и лекций, наконец, для ежедневной трапезы, горячих завтраков и обедов, приготовляемых и подаваемых членам общества Дворца Искусств. <…> Все дерзкие и робкие, прославленные и начинающие соединялись за длинными столами в каменной, сводчатой, продолговатой, полутемной «трапезной», а летом – во дворе, под вьющимся виноградом, образующим чисто итальянские дворики. Дарья Тимофеевна, в монашеском темном платье, вышколенная и аккуратная, раздавала торжественно порции чечевичного супа с воблой и пшенную кашу. В пору военного коммунизма – это царский обед.
Вечерами в полутемной гостиной на мраморном мозаичном столе сервировали чай с карамельками и бутербродами с повидлом. Бывший граф Сергей Сергеевич Шереметев, сын Сергея Дмитриевича Шереметева, которому принадлежал целый квартал домов в Москве, ряд имений, подмосковных усадеб (а так же в Петербурге), проживал в левом крыле Дворца Искусств, по соседству с художником Николаем Вышеславцевым». Да-да. Граф Шереметев морщился, глядя на бутерброды с повидлом, но к чаю выходил ежедневно.
Дворец Искусств имел еще летнюю дачу в бывшем имении чаеторговцев Некрасовых. Питались и здесь неплохо. Еду добывали в соседских деревеньках. И расходились по живописным уголкам хвойного леса с этюдниками и альбомами.
Весной того же 1919 года открылась Книжная лавка «Дворца Искусств», им выделили здание на углу Газетного переулка и Тверской улицы (на этом месте сейчас стоит дом 9 по Тверской). В лавке трудились Андрей Белый, Федор Сологуб, Матвей Ройзман, журналист НФ. Барановский, Дир Туманный (Н.Н. Панов) и другие члены Дворца Искусств. Заслуга Ивана Сергеевича Руковишникова в создании Дворца Искусств вне сомнений.
Иван Сергеевич с юных лет страдал туберкулезом (от него и скончался в 1930 году). Из-за этой проклятой болезни он и учился с перерывами. А мечтал стать художником! Неплохо рисовал. Свои первые стихи опубликовал в «Нижегородском листке» в 1896 году.
Максим Горький, прочитав стихи молодого человека, пригласил его на разговор. Рукавишников вспоминал встречу с писателем: «Я был белым вороном, вернее вороненком. Таким же Белым вороном, только из другой стаи, был и Горький. Общество не ожидало писателей из той среды, куда забросила судьба меня, и из той среды, куда забросила Горького. И много еще лет потом доводилось мне слышать за спиной: «Это тот, отец которого… Это тот, дед которого… Это тот, дом которого…» Юноша понравился писателю, и Алексей Максимович рекомендовал его редактору популярного «Журнала для всех» в апреле 1898 года: «Имею в виду одного мальчика, который тоже хочет стать литератором и имеет для этого данные. Первый рассказ его – очень задушевная штука! – пошлю Вам. Денег автору не требуется, ибо у него папашка – миллионщик».
С легкой руки Горького Рукавишников отправился в Санкт-Петербург, где в 1911 году опубликовал свой роман «Проклятый род», в 1914-м роман был переиздан. Роман высоко оценил А.В. Луначарский: «Представляет собой значительную художественную и историческую ценность».
Надо отметить, что и в наши дни роман «Проклятый род» не потерял своей художественной и исторической ценности. Его и сейчас читают и советуют прочитать своим знакомым эту занимательную историю трех поколений рода Рукавишниковых – роман, вызвавший злобу и проклятия всех сородичей Ивана Сергеевича.
Талантливого юношу приветил М. Горький, но он же, по легенде, и сыграл неприглядную роль в жизни начинающего писателя – посоветовал лечить туберкулез водкой. Парень пристрастился к этому «снадобью»… С тех пор, мягко говоря, часто бывал нетрезв. За два месяца до отъезда из страны в длительное путешествие с Айседорой Дункан, Есенин жаловался Иванову-Разумнику:
«Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишникова. Им, видите ли, приятно выпить со мной. Я не знаю, как отделаться от такого головотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко».
Несмотря на столь резкую характеристику и насмешки современников над Иваном Сергеевичем Рукавишниковым, Сергей Есенин высоко ценил творчество поэта. Из воспоминаний Ивана Грузинова: «Иван Рукавишников выступает в «Стойле Пегаса» со «Степаном Разиным». Есенин стоит близ эстрады и внимательно слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.
В перерывах и после чтения «Степана Разина» он повторяет:
– Хорошо! Очень Хорошо! Талантливая вещь!»
Ивану Сергеевичу не везло с женами, которых, как истинный поэт, он, словно, выбирал в рифму:
«Первая жена его была Ирина Дусман, вторая – Нина Зусман». Первая родила ему сына Данила, но он умер за год до смерти отца. Молоденькую вторую жену Нину он привез из Балаклавы. Ее описала Нина Серпинская: «<…>у богатого еврейского купца нашел поэт жгучую красавицу, которая, попав в необычную атмосферу московской богемы, вообразила себя сразу пушкинской Татьяной, египетской Клеопатрой, Мадам де Помпадур и современной просветительницей». Девушка пользовалась благосклонностью ближайшего помощника Троцкого – товарища Склянского и наркома А.В. Луначарского. Луначарский, скинув лет десять, дарил ей свои фотокарточки с игривыми надписями «От короля духов», «Царь магов»…
Когда Рукавишников со второй женой приехал в Москву, сначала жили во 2-м Доме Советов (гостиница «Метрополь»), в номере 432, потом недолго в Хлебном переулке, 16 (дом не сохранился), потом во Дворце Искусств. В адресносправочной книге «Вся Москва» за 1929 год адрес все еще оставался прежним – улица Воровского (Поварская), 52, кв.9.
Вскоре Нина Рукавишникова стала «наркомом цирков» и вышла замуж за циркача Дарлея. Фамилию не сменила, что позволило Вадиму Шершеневичу острить в газетной статейке: «Дела в цирках идут «спустя рукавишки»…». Эта шутка чуть не стоила ему жизни. Поэт переходил улицу, и еле увернулся от мчавшегося на него автомобиля, в котором усмехались Нина и ее новый муж.
После закрытия Дома Искусств в 1921 году Иван Сергеевич Рукавишников в качестве профессора в Литературно-Художественном институте им. В.Я. Брюсова преподавал стиховедение, том же особняке на Поварской.
В родительском доме Рукавишниковых в Нижнем Новгороде по инициативе Ивана Сергеевича и его брата Митрофана создан Музей. Митрофан Сергеевич стал скульптором, его сын – Иулиан Митрофанович продолжил дело отца. Стал известным скульптором и Александр Иулианович…
Памяти Сергея Есенина
Не расцвел-отцвел. Повалился-сгиб.И пошла расти крапива-бурьян,Пушкин, Лермонтов, Кольцов, да мало лиВ полчаса не сосчитать.Стариками нас судьба не баловала.Двадцать, тридцать, тридцать пять.Скоро сказка русская катится,А концов поди – ищи.Трахнет в темя гнилая матица,И никто не виноватится.Рыскай по полю, свищи.Пропадай ты, святая родина,Чудо-тройка, чудо-птица.Ров да кочка да колдобина.Кто сказал, что тройка мчится.По грязи осенней хлюпая,Ты куда шажком везешь……Эх ты родина, баба глупая,Соловьев своих почто не бережешь.В ночи, зорями улыбчивые,Хороши твои соловьи заливчатые, хороши.Попоет соловей да повалится,Об пень головенкой ударится.Иль что шибко пел от души.Эх ты мать, баба корявая,Хороша твоя панева дырявая,Хороша твоя кривая клюка.Только жизнь с тобой тяжка.Ночью осеннею над полями встал сон.Видится зайцам, волкам, соснам да странникам:Встали вкруг мудрецы-певцы-старцыВсех сто сот.Бороды седые длинны, посохи высоки.Встали вкруг сто сот.Затаилась земля: ждет-молчит.Посмотрели на звезды старцы и запели враз.Запели они от мудрости своей, от полноты дней,От пережитых горей радостей, от улыбок внуков своих,От великого раздумья, от красы-истины.Ах и песня ж то.Расцвели в полях цветы лазоревые и рдяные.Пали на землю звезды-огоньки.Видят волки да зайцы сосны да странники:Стал рай на земле.Жизнь-любовь-красота. А смерть не смерть.Родина, родина, слепица юродивая…Красен сон, только сон не явь.Эх ты мать, дурища корявая,Задавила ты всех сто сот мудрецов во младенчестве.Задавила, темная, только начали петь по-соловьиному.Видно не нужны тебе мудрецы-певцы.И так, мол, проживу… – Проживешь, ленивицаИ городу башня великая.На башне колокол бьет, ведет счет.Александр, Сергей. Кто там еще. Проходи.В лесу дремучем пещерка малаяВ месте неведомом.Старик замшонный, не понять, где одежа, где тело,По старине Яриле молится.Книга у него берестяная лежит.Что ни час угольком вписывает не по-нашему.В землю лбом бьет.– Имена же их ты веси.Окрай неба зарево новых дней.1926 Иван Рукавишников«Соловьиный дом»
Круглолицую, черненькую Надю Павлович, вечно озабоченную своими нарядами, которые она шила сама «вкривь и вкось», «одному Богу известно из чего» в это суровое время, белокурый Сережа часто провожал домой, сюда, на Никитский бульвар, к дому 6. Они познакомились в литературном кружке при журнале «Млечный путь» (Садовническая, дом 9). Оба были начинающие… Сереже очень нравилось здание, где жила Надя: оно называлось «Соловьиный дом» (Никитский бульвар, дом, 6). Как поэтично звучит! В прошлом веке дом принадлежал директору императорских театров. Здесь постоянно звучала музыка. Репетировали актеры Большого и Малого театров. Распевались… Сюда приходили Пушкин, Грибоедов, Гончаров… Дом перестраивали и надстраивали… И теперь в квартире 23 жила его кокетливая подружка…

Никитский бульвар, дом 6
Надя родилась в Лифляндской губернии, окончив псковскую гимназию, приехала в Москву. Поступила на Высшие женские курсы. Их дороги с Сережей Есениным постоянно пересекались. В 1918 году Надя Павлович уже являлась секретарем Пролеткульта, где приятель жил на чердаке (Воздвиженка, 16). Все поголовно пролеткультовцы бредили стихами Сережи и думали: «Как он все-таки похож на свои стихи!»
Надю Павлович, Сережу Есенина, Сергея Клычкова и Мишу Герасимова еще больше сблизила работа над киносценарием «Зовущие зори».
Лекции Андрея Белого по антропософии одинаково интересовали и Надю и Сережу. Позже Надя служила секретарем внешкольного отдела под началом Надежды Константиновны Крупской, там же служила и Зинаида Райх, жена Сережи.
Жизнь девушки резко изменилась, когда в июне 1920 года Надя Павлович приехала в Петроград с поручением организовать Петроградское отделение Союза поэтов и просьбой к Александру Александровичу Блоку – возглавить созданное отделение.
Надя давно увлекалась поэзией Блока. Восхищалась поэмой «Двенадцать»: «Я страстно принимала его поэму «Двенадцать» и она сыграла большую роль в моем собственном признании революции и сближении с пролетарскими поэтами». С тем же трепетом и холодеющими руками, как ее приятель Сережа Есенин, Надя показала свои стихи А. Блоку. И Блок во многом определил ее судьбу. Они часто и много беседовали. Разговоры с поэтом Надежда запомнила навсегда. Она любила Блока – поэта, в разговорах же узнала и полюбила Блока-человека. Блок укорял девушку за ее рассеянность: «Я все всегда могу у себя найти. Я всегда знаю, сколько я истратил. Даже тогда, когда кутил в ресторанах, я сохранял счета…» Надежда смущенно поинтересовалась, неужели он никогда не терял своих записных книжек? Александр Александрович ответил: «У меня их 57. Я не потерял ни одной».
Когда интеллигенция покидала Родину, Блок говорил Надежде: «Я могу пройти незаметно по любому лесу, слиться с камнем, травой. Я мог бы бежать. Но я никогда не бросил бы Россию. Только здесь и жить и умереть».
Блоку нравилось четверостишие Нади:
У сада есть яблони.У женщин есть дети.А у меня – только песни,И мне – больно.Великий поэт написал в ответ на своем сборнике, подаренном ей:
Яблони сада вырваны,Дети у женщин взяты,Песню не взять, не вырвать,Сладостна боль ее.В 1921 году Блок неожиданно умирает… Потрясенная Надежда Александровна пишет: «Умер близкий мне человек…» В тот же год в тяжелейшей депрессии Надежда отправляется в Оптину пустынь, где становится послушницей отца Нектария – последнего старца Оптиной пустыни.
В 1923 году Оптину пустынь закрыли, отца Нектария тяжелобольного отвезли в тюремную больницу. Надежда, представившись внучкой старца, воспользовалась близким знакомством с Н.К. Крупской, и добилась смягчения приговора: старца отправили на поселение.
Надежда Александровна часто посещала духовного отца, написала воспоминания о его удивительной жизни, учениях и беседах с ним. Старец почил в 1928 году, завещав Надежде Александровне помнить Оптину и трудиться на ее благо. Все эти годы Павлович писала духовные стихи, которые нашли читателей лишь в 1991 году. Много сочиняла для детей.
В годы Великой Отечественной войны поэтесса издала сборники патриотических стихов «Шелка победы» в 1943 году и «Бранные кони» в 1944 году.
В 1962 году вышла книга Н.А. Павлович «Думы и воспоминания» о М. Горьком, С. Есенине, В. Маяковском, В. Брюсове и А. Ахматовой. Надежда Александрова писала и о А. Блоке, рецензировала первый том его Собрания сочинений. Поэтесса прожила яркую жизнь, наполненную общением с величайшими людьми своего отечества. Скончалась в 1980 году. Похоронена на Даниловском кладбище.
«Соловьиный дом» был безжалостно снесен в 1997-м. На его месте появилась прозаическая автостоянка…
Еще в 1939 году Надежда Александровна написала стихотворение, посвященное своему опальному другу юности – Сереже Есенину, в которого была чуточку влюблена. В этом стихотворении – вся нехитрая история их отношений: взаимная симпатия, рожденная юностью и любовью к поэзии, их прогулки по ночному городу и рассказы его о деревенском детстве, и ее размышления о трагическом уходе Сергея…
Сергей Есенин
Голубоглазый, озорной мальчишка,С ребятами по стежке полевойХодил он в школу, ночь не спал за книжкой,Но иногда бывал он сам не свой.В родной деревне все казалось странно,Как будто жил в ней чародейный дух:Рожком, дрожащим на волне тумана,Сзывал коров седеющий пастух;У бабки пузырями шла опараПод мудрое мурлыканье кота…Уже дыханье песенного дара,Как уголь, обожгло ему уста.Он затуманился от первой боли;Вся красота его родной землиРаскрылась в нищенском рязанском поле,Где древние дороги пролегли.Кровь Коловрата, видно, не остылаВ тяжелых красных ягодах рябин,И, голос пробуя, о вечно милой —О Родине запел крестьянский сын.* * *В синей поддевочке, с барашковым воротником,Встал молодой на пороге моем.Волосы русые – в два кольца,Бледность безусого его лица.– Дай на крылечке в Москве посидим! —Вижу в глазах его хмель и дым.* * *«Стойло Пегаса»… Кабацкий уют.Здесь спекулянты, отчаявшись, пьют,Дамы накрашены дочерна,А за окном – снег и луна;Мчатся последние лихачи…Выстрел далекий…Молчи! Молчи!Вот он – рязанский родной паренекКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.