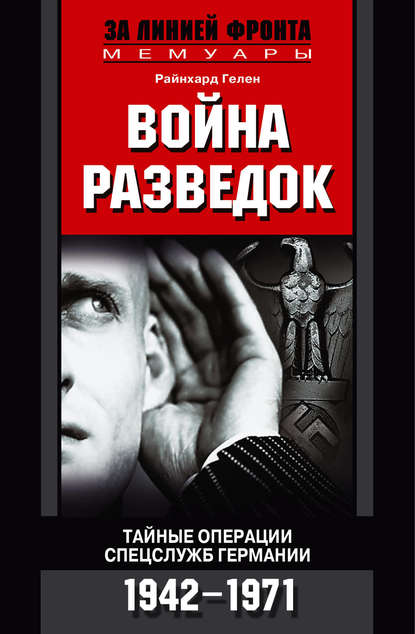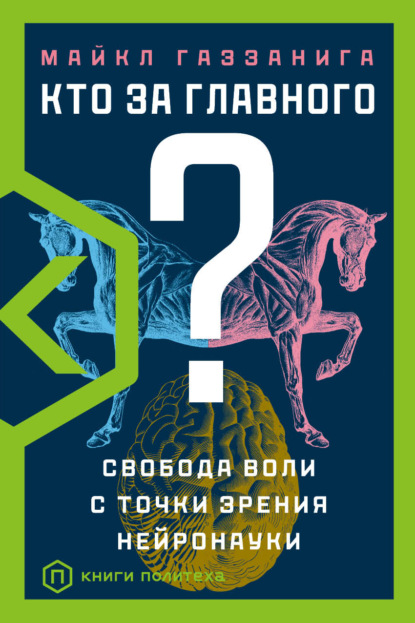Скитальцы

- -
- 100%
- +

Дизайнер обложки Роман Максишко
Редактор Ирина Иванова
Издатель Максим Осовский
© Александр Левинтов, 2025
© Роман Максишко, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0067-0731-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эта книга посвящается скитальцам, волею судеб и по собственной воле оказавшихся на дальней далекой чужбине, в Америке. Все они достойны биографических романов – и многие из них получили их. Здесь – лишь попытка реконструкции их судеб, которые нам интересней, чем биографии…
Предисловие
Скита́ла или сцита́ла (от греч. σκυτάλη «жезл») – инструмент, используемый для перестановочного шифрования, в криптографии известный также как шифр Древней Спарты. Представляет собой цилиндр и узкую полоску пергамента, на которой писалось сообщение, обматывавшуюся вокруг него по спирали. Античные греки и спартанцы, предположительно, использовали этот шифр для обмена сообщениями во время военных кампаний.
ВикипедияРуководитель военного похода, марша, маршал, отправлял скиталу царю или правителю с секретным донесением и получал от него тайные приказы, распоряжения, инструкции и наставления, при этом гонец, даже попав в плен к врагу, не мог знать содержания, так как инструмент дешифрирования был только у маршала и царя\правителя. Скиталец, следовательно, в отличие от странника, всегда – носитель тайной вести с родины и на родину. Однажды Владимир Александрович Лефевр, профессор Ирвайнского Университета (Калифорния, США), попросил меня написать книгу о Собачьей Площадке в Москве, где прошло его детство – это и было его скитало. «Рапсодия Собачьей Площадки» написана, но нигде не опубликована, она ждёт своего часа в недрах моих компьютеров уже более двадцати лет.
Рукопись «Скитальцев» хранится там же – уже четверть века. Я не знаю, что заставило меня найти её и подготовить к печати (=немного отредактировать), но эта работа заняла всего дня три.
Я и сам скиталец, 9 лет прожил в Калифорнии и написал эту книгу исключительно о русских в Америке. Русские потому и прилагательные, что прилагаемы к любой стране, лишь сама их родина для них подлинная чужбина, злая мачеха, от которой бегут – принудительно, добровольно или случайно: в Европу, в Америку, в Израиль, на край света и даже за этот край.
Здесь собраны судьбы русских в Америке, имена известные, малоизвестные, неизвестные. Строго говоря, это – судьбы, а не биографии, к тому же окрашенные моим отношением и пониманием этих людей. Я люблю их, своих сотоварищей и коллег по скитанию, и надеюсь, что вы их тоже полюбите или проявите к ним сочувствие.
СВЯТЫЕ
Смерть иеромонаха Ювеналия
На остров Кадияк я прибыл в лето 1795 года. После Сибири Русская Америка показалась мне сразу тоскливой и изнеженной – все дожди, дожди, дожди, а то – туманы да туманы, тоскливей и заунывней тех дождей. И даже зимой не столько морозно, сколько холодно от сырой промозглой погоды. И нет успокоения воздуху и вечно в нем крутят ветры и порывы.
Она, Сибирь, конечно, край заброшенный и Богом забытый, но этот – Им даже и не вспоминаемый. Забросило сюда, за тридевять земель, самого шалого люду: беглых каторжан, что сорвались со своих цепей в копях, но были пойманы на дорогах, беспощадно биты кнутом и отправлены сюда, в окрестности преисподней, а еще угрюмых раскольников-нетовцев, для которых весь мир – Антихристов, весь мир – геенна, а они, насупленные и молчаливые, сосредоточены на собственном спасении и уворачивании от этого мира. Эти упорствующие, хоть и хозяйствуют, а пострашней любой каторги: ты в воду упади – багра не подаст, ты в огне гори – валежину подбросит.
Правит здесь всем – и от имени государя, и от имени епископа, и хоть от самого Господа горький сатрап Александр Андреевич Баранов, директор Российско-Американской Компании, погрязший в блуде, пьянстве, разврате и мошенничестве, охальник, каких и по Сибири-то – поискать. Все работники компании – что русские, что алеуты, что другие, разделены им на три разряда: усердные и покорные в день получают по стакану водки, беспокойные и нерадивые – по полстакана, крикуны и пьяницы – малую рюмку. Эти-то потом докупают по немилосердным ценам и тайным ходом зелье у комендатовой жены. Те же из русских, кто вырывался из тенет Российско-Американской Компании, промышляли большей частью извозом – на лошадях, на собаках, на оленях или по воде.
Через год, 19 июня, я, скромный иеромонах, открыл первую на Кадияке и вообще в Русской Америке школу. В первый день ко мне пришло 11 отроков и несколько взрослых мужчин. в окна лился редкий в здешних местах свет, и нам казалось – то свет просвещения льется на нас. Я читал ученикам Священное писание, а они сидели, затаив дыхание и не шелохнувшись, весь урок, и я, не сомневаясь в выражении их лиц, видел, что они понимали говоримое им на незнаемом им языке – и в силу собственного старания и милостью и попустительством Божиим. Я жаждал утвердиться в том, что Богу угодны наши занятия и потому после урока пошел с учениками к реке. Смиренно попросив у Господа, чтоб он напхал мне рыб побольше да покрупнее не прожору для, а во свидетельство, я забросил свою сетчонку и выгреб с первого же раза 103 огромные рыбины. Мы все дивились, как они могли войти в столь малую сеть.
Свет просвещения и огнь разума, разливавшиеся по умам и душам туземцев, этих прилежных детей сумрачной природы, был противен и чужд всесильному самодуру нашему Баранову, который именем Иркутского епископа послал меня через четыре недели в страну Илиамн, где жили непокорные племена. Я не мог ослушаться своего иерарха и взошел вместе с Барановым на бот «Екатерина».
В пути нас застала страшная буря. Казалось, утлый и немощный бот наш будет разбит волной вдребезги. Пьяней пьяного и мало уже что соображающий Баранов велел мне освятить судно, потому как на берегу, при окончании его постройки, по вечному похмелью забыли это сделать. Бог попустил освящение, хотя устоять на ногах не было никакой возможности и нас катало и швыряло от борта к борту и обливало студеными струями, как бичами, в наказание за нерадение и былое упущение обряда.
На другой день буря утихла, не в пример нраву Баранова. Видя, как огромные киты резвятся в море и пускают шумные фонтаны, богохульник решил сделать из меня нового Иону и даже рукоприкладствовал, хватал за грудки, пытаясь вышвырнуть меня за борт этим левиафанам.
В виду земли Илиамн, невдалеке от порта, которым командовал офицер Лебедев, я сел в плоскодонную бедерку, обшитую шкурами морского зверя, и достиг берега. Порт, расположенный в устье при реке Кенай, был слабо укреплен и держался против воинственных дикарей лишь отчаянной пальбой нетрезвой команды.
Отрядив в сопровождение двух проводников, Лебедев направил меня к людоедам вещать слово Божие.
В стране племени Илиамн меня встретил брат вождя по имени Катлев.
– Водка есть?
– Нет.
– А ружье есть?
– И ружья нет.
– А ткань?
– И ткани нет.
– А сахар?
– Нету.
– Что же у тебя есть?
– Бог.
– Ну, этого у нас – перед каждым вигвамом.
– У меня Бог – один на всех.
И меня повели к вождю. Вождь встретил меня дружелюбно, и я стал проповедывать меж них Слово Божие. Как мог, потому что ни я почти ни слова не понимал из их речи, ни они – меня. Однако сила Священного Писания сама по себе такова, что дикари слушали его и, медленно, шаг за шагом, один за другим, обращались в православие. Крещен был и наречен был Александром и сам вождь.
Жили же они в мерзости и грехе, не видя в том ничего ужасного.
У вождя было десять жен, и он скотствовал с ними со всеми одновременно и в любое время, не чуя сраму. Я увещевал его оставить одну жену, прилепиться к ней и тем подать пример христианского образа жизни своим соплеменникам. Но он и помыслить себе не мог заставить жить с одной.
Однажды ночью, сморенный усталостью и утомленный, я был в тяжком сне позорно соблазнен одной из дикарок. Очнувшись, я с гневом прогнал дьявольское отродье от себя, мучимый стыдом и сладостным грехом.
Многие индейцы отвернулись от меня и от Слова Божия после этой шкоды, подстроенной злокозненным Катлевом, мелким бесом юлившим всегда подле меня. В его хитрой и предприимчивой ко всякому злу голове роились смутные надежды стать через христианство вождем вместо своего брата. И когда он с несомненностью понял, что ни Христос, ни я, раб Его, никак не будем способствовать ему в его интригах и начинаниях, он составил, вкупе с другими злоумышленниками, заговор и, когда все племя собралось вокруг вигвама вождя, открыто обвинил Иисуса и меня в слабости и неспособности помочь племени. Это случилось аккурат в канун дня святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи, великого праздника всей России, всего через два с небольшим месяца моего пребывания меж этими дикарями.
И они убили меня. И я встал и пошел им навстречу, умоляя обратить свои сердца к Богу. И они вновь убили меня, но я вновь встал, уже давно и совсем неживой, и пошел вслед за ними, и вновь призвал их к вере в Спасителя. И тогда они в третий раз убили меня и разрезали мое тело на куски и мелкие клочья и побросали в разные стороны, чтобы я не смог встать. И тогда над всей поляной встал столб огня и дыма, и этот столб воззвал к ним на их языке со словами Иисуса об искуплении. И они пали ниц, и поверили, и приобщились к истине, а Катлев, один изо всех не павший, пошел, гонимый бесами, на реку и в ней утоп.
О. Иннокентий
В Ситке, бывшем Ново-Архангельске, бывшей столице бывшей Русской Америки, стоит, превращенный в музей, митрополичий дом. Дом этот охотно и благоговейно посещают туристы. Смотрители-экскурсоводы и ведомые ими экскурсанты с почтением рассматривают, как хитро и умно строили русские свои дома, сколько здесь мелких уловок по сохранению тепла, света и безопасности. Еще большее почтение вызывают у них кропотливые и непрерывные в течение многих лет и десятилетий труды и занятия православного митрополита, не только несшего службу и руководившего батюшками многочисленных приходов, но открывшего здесь школу, написавшего русско-алеутский словарь, переведшего для алеутов Священное Писание, ведшего постоянные метеорологические, синоптические, фенологические, ботанические, этнографические наблюдения, скрупулезно внося все эти сведения по рубрикам с такой дотошностью и тщательностью, что этими записями и наблюдениями и по сю пору пользуются многочисленные исследователи.
Индейский народ, которому проповедовал христианство св. Ювеналий, с тех пор остается верен православию. Когда в Джуно, нынешнюю столицу Аляски, в 1893 и 1894 годах сюда хлынули тысячи золотоискателей, за которыми последовали и протестантские священники, старавшиеся обратить местное индейское племя тлингитов (по-русски, колошей) в свою веру. При этом американцы запрещали индейцам говорить на своем языке, недостойном быть христианским литургическим языком. Однако св. Иннокентий (Вениаминов), первый епископ Аляскинский, построил семинарию, собор и тлингитскую часовню в Ситке. Индейцам в Джуно было известно, что прихожане русской православной миссии молятся по-тлингитски. Св. Иннокентий к тому времени уже хорошо владел этим языком и переводил на него Писания и молитвы.
Колоши Джуно, новой столицы Аляски, обратились к нему с просьбой прибыть к ним из Ситки для катехизации и крещения. Он приехал в июле 1894 года и окрестил около 200 индейцев.
Когда индейцы еще спорили, стоит ли им принимать святое крещение, нескольким из их вождей был ниспослан один и тот же сон. Седой старичок с бородой призывал их всех креститься.
Когда из Ситки прибыл образ св. угодника Николая, вожди узнали старца из своего сна. «Кто этот человек?» – спросили они, и, узнав его имя, пожелали принять православие и посвятить свой новый храм этому святому.
Великого трудолюбца и радетеля края выдернули отсюда в Петербург, затем в Москву где он в почете и завершил свои дни, вдали и тоске от покинутого им сумрачного и сиротского края, святителем и апостолом которого он был.
И из-за этого жестокого призыва потеряла Аляска, православная и туземная, лучшего своего пастыря и поводыря.
Первый советский святой и патриарх (Василий Беланов, патриарх Тихон)
Прежде, чем рассказывать о нем, стоит, по-видимому, вспомнить немного историю патриаршества, не всю, конечно, но существенно важную для этого рассказа часть.
Династия Романовых началась в 1612 году, строго говоря, не с Михаила, а с его отца, патриарха Филарета. Престарелый и изможденный тюрьмой, напастями и испытаниями духа и плоти, Филарет принял патриарший престол после Иова, первого патриарха всея Руси, и возвел ошую себя сына своего Михаила на царский, и был ему отцом и наставником, советчиком и духовником. И это вызывало умиление в русских, исстрадавшихся Смутой и всеми предыдущими историческими дрязгами, сердцах. И всякая душа оттаивала: вот, и кончились тяжелейшие времена Грозного и опричнины, кончилось время преступного Бориса и ушли в небытие смутные времена лже-Димитриев и лже-истории. И вот, она начинается, вновь и как с самого начала история страны-великомученицы, вечной, но истерзанной девки.
Но уже сын Михаила, богобоязненный и смиреннейший Алексей надругался и над верой, и над русским народом, и над русской историей. И над патриаршеством, так надругался и изголился, что его сыну, заполошному сынку Петру, пало подгнившее яблоко рокового для страны решения – и не стало больше патриархов, и не стало более патриаршего наставления над царями – и потекли самоправие-самодурство, деспотия и диктатура, чем дальше, тем все менее русское, немецкое, иноземное, глубоко чуждое стране, народу и истории.
И тянулась эта нелепица не год и не два – до долгожданного и освободительного 1917 года, когда, наконец, кончилось нелепое, преступное и гнусное иго мелкой германской сволочи, прикрывавшейся русской фамилией Романовых. Последний, постыднейший акт этого подлейшего правления – истошная бесовская скверна Гришки Распутина, сатаноида почище любого Гришки Отрепьева, позорища сана и христианства, в сутанах которого таился этот черт.
И когда не стало Романовых с их прихвостнями, решено было избалованной, оскверненной, но все еще церковью вернуться к собственной обезглавленной иерархии и выбрать себе патриарха.
Выбор пал на 52-летнего В. И. Белавина, ставшего патриархом Тихоном.
Василий Белавин, псковитянин, получил высшее религиозное образование в Петербурге и с юношеских лет в добрую шутку прозываемый «патриархом», прошел довольно быстро и успешно по многочисленным ступеням православной иерархии и уже в 27 лет становится Архимандритом и ректором Холмской духовной семинарии, а в 33 года (ранее никак нельзя по уставу) хиротонисован во Епископа Люблинского, Викария Холмско-Варшавской Епархии.
Доказав на этом поприще, что с католиками и униатами можно вполне уживаться без угроз и кар, а мирным образом, Тихон был переведен через год в Америку и назначен епископом Алеутским и Аляскинским – вослед за прославившим себя подвигами служения епископа Николая. Тихон значительно расширяет и укрупняет свою епархию: Лишенная государственных ассигнований из России, американская миссия при Тихоне буквально процветает: открываются два новых викарианства, на Аляске и в Бруклине, духовная семинария в Миннеаполисе, Свято-Тихоновский монастырь в Пенсильвании, бурса в Кливленде, женский монастырь на Кодияке. Число приходов возрастает с 15 до 75, в том числе несколько в Канаде, кафедра переносится из Сан-Франциско в Нью-Йорк, а сам Тихон получает сан Архиепископа Североамериканского.
9 лет служения в Америке заканчиваются вызовом на служение на Ярославской кафедре, затем, спустя шесть лет – Литовской.
19 июня 1917 года Тихон становится Митрополитом Московским, а 5 ноября того же года – Патриархом, первым советским патриархом.
Отныне его голос не смолкает: он выступает против реформы времени и введения Григорианского календаря, против позорного Брестского мира, против изъятий церковных имуществ. Вот, что он пишет в СНК в письме от 13 октября 1918 года: «Реками пролита кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Вы дали народу камень вместо хлеба и змею вместо рыбы. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью, вместо мира вы искусственно разожгли классовую вражду… Бесчеловечная жизнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения – напутствия Св. Тайн, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения. Это ли свобода ваша, если никто не смеет высказать открыто своего мнения без опасности попасть под обвинение в контрреволюции. Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Мы переживаем ужасное время вашего владычества, долго оно не изгладится из души народной, омрачивши в ней образ Божий и запечатлевши в ней образ зверя. Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода к обвинению нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься столп злобы вашей, тем вернее будет это свидетельствовать справедливость наших обличений».
Когда большевики начинают массовое ограбление церквей якобы в помощь голодающим Поволжья (до голодающих не только не дошло ни капли награбленного, но еще и много пограбили они из помощи, организованной Гувером, будущим президентом США), патриарх объявляет им анафему. Спустя почти 70 лет прихвостни ЦК и КГБ в рясах забудут эту анафему, благославляя последнего советского царя Михаила Горбачева.
Оплеванный большевиками, преданный Сергием Владимирским, Филиппом Смоленским, Антонином, Евдокимом и другими иерархами, патриарх, пройдя Лубянку, оседает в глубинах Донского монастыря. Он еще успевает сказать, узнав, что гроб с трупом Ленина во временном мавзолее попадает в канализационную систему: «По попу и елей», но голос его живой утихает навеки. Он гибнет, убитый подло и втихаря, а вослед потянулись на Соловки священнослужители, не пожелавшие служить совдепии. Подонки, придонная нечисть священников создают рабски послушную большевикам и чекистам новую, советскую православную церковь. Славословиями и предательством своей паствы они восстанавливают в 1943 году патриаршество как отдел КГБ. Они с собачьей преданностью сдают на Лубянку списки молящихся, венчающихся, крестящих младенцев и отпевающих, они предают опасной гласности тайны исповеди, они стучат на свою паству и друг на друга.
Высока судьба патриарха Тихона и светел его последний путь.
И, возможно, он был бы сломлен и затих в бессловесности, если б не было в его жизненном и духовном опыте Америки, тогдашней, еще небюрократизированной и осовковавшейся Америки, где, в отличие от России, свобода слова – не слова из конституции, а свобода, где он ощутил масштаб большой страны и ответственность за нее, где люди научились бороться за свое духовное пристанище.
МУЗЫКАНТЫ И КОМПОЗИТОРЫ
Рахманинов
У нас на Монтерейском полуострове иногда зимой такие ливни бывают – землю из-под ног уносит. Мы, развозчики пиццы, любим такие кромешные вечера: народ из дому высовываться боится, а есть все равно хочется. Вот нас и вызывают. И мы едем, воодушевленные ажиотажным спросом. И, чтоб совсем уж свет клином не сходился прямо перед машиной, потому как никакие фары, никакие дворники не помогают видеть в этом воющем чертоломе ни зги, я обычно включаю радио канал 95.5, «Классическая музыка». Едешь себе какой-нибудь дебрей, по горному серпантину, объезжаешь рухнувшие ветви или деревья и слушаешь что-нибудь нескоростное и не призывающее к ускорению.
Так было и в тот раз: машина форсирует какой-то только что образовавшийся поток, где-то оборвало электропровода, поэтому даже света домов нет, а по автомобильному радио бодрый диктор дает вступление: «Многие еще, наверно, помнят этого выдающегося музыканта, писавшего музыку для многих известных фильмов Голливуда между двумя мировыми войнами. Оказывается, однако, он писал не только для кино. Вот послушайте его Первый концерт для фортепьяно с оркестром».
И зазвучал Рахманинов.
В школьной юности я заиграл эту пластинку до того, что мог, наверно, исполнять весь концерт. Знакома каждая нота, каждый аккорд, каждый переход. Первая часть, панорама морского прибоя во время шторма, особенно впечатляет. Откуда он, житель балтийского севера, мог узнать эту мощь стихии? Где он, восемнадцатилетний музыкант, мог увидеть и услышать такое? С каких утесов и круч ему открылся голос Моря?
Мне самому тогда было еще меньше лет – всего 16. И мы были почти ровесники, и он, мой старший товарищ, вел меня в этот яростный мир, который мы реально познаем много-много позже: он в сорок пять, я – в пятьдесят один. Мы оба, опять почти ровесники, оказались на калифорнийских берегах Тихого океана, где его Первый концерт – лейтмотив даже тихого утра.
Он умер в Беверли-Хиллз, соседствующем с Голливудом, районе наипрестижнейшем и дорогущем, где издревле (по американским понятиям, то есть более пятидесяти лет тому назад) обосновались супер-звезды Голливуда. Умер сразу после своего семидесятилетия, с надеждой, что родина его устоит и выстоит. Он был один из тех многочисленных русских, которые, забыв обиды и позор быть русским, бросились на помощь стране, исторгнувшей их и обливавшей их грязью долгие и тягостные годы изгнания.
Впрочем, Рахманинова никто не изгонял. Он даже толком и не эмигрировал. В декабре 1917-го года Сергей Васильевич, признанный европейский, даже мировой пианист, дирижер и композитор, давал концерты в Хельсинки. В коридоре Смольного, даже не в кабинете, самозванный премьер-министр самозванного правительства, Совета Народных Коммисаров, Н. Ленин, он же В. И. Ульянов, подписал, не согласовав с товарищами по шайке, акт о предоставлении независимости Финляндии – и дорога назад для Рахманинова неожиданно оказалась закрытой. Нечто подобное пережили многие, когда три пахана подписали спьяну в Беловежской Пуще договор о расторжении союзного договора, не согласовав этого с другими товарищами по шайке. Миллионы людей оказались неожиданно для себя заграницей, иностранцами в собственной стране.
Рахманинов, Скрябин, Калинников – плеяда русских композиторов Серебряного века, связующее звено между гигантами века Девятнадцатого (Чайковский, Танеев, Рубинштейн) и гигантами века Двадцатого (Шостакович, Прокофьев). Звено, а не перевал. И трудно сказать, какая из этих трех вершин выше. Да и надо ли делать эти измерения?
Подобно Листу, Рахманинов был замечательным, гениальным, виртуознейшим пианистом. Я слышал множество исполнений Второй соль-минорной сонаты Шопена. Они все были более или менее схожи. Все, кроме Рахманиновского. Как все исполняют Похоронный марш из этой сонаты? – Скорбно, размеренно, в ритме марша похоронной процессии. И только Рахманинов услышал в этой музыке не пеший ход, а вихрь скорбной мысли, смерч отчаяния, под его Похоронный марш не гроб с телом несут – горе. Он сорвал скорбную вальяжность с пышных похорон и предъявил нам, сытым поминками и важным величием траурного момента, многозначительными речами и мокрыми платочками, скороговорку подлинного отчаяния и потери себя при потере близкого, потому что, оказывается, этот ушедший и был нами, а мы теперь без него – что? Пыль на ветру? Что мы теперь и как мы теперь? И зачем все эти лица, залпы и речи, топот толпы и ропот равнодушья?
Что такое Америка 20-х годов? – Еще не наступила Великая Депрессия, не введен Сухой Закон, еще не сказано о прошедших по Первой мировой, что они – потерянное поколение. Америка строит индустрию грез, самую мощную свою индустрию, по сравнению с которой даже НАСА и Билл Гейтс – сопляки. В мареве лос-анджелесской сковородки создается для всего мира вторая реальность, еще более иллюзорная, зыбкая и призрачная, чем первая.
И, хотя кино еще немо, в нем уже есть музыка. Музыка – единственный звук немого кинематографа, его первое слово.
И мастер живописной музыки Сергей Рахманинов ангажируем в кинематограф.
И срывает хорошие гонорары, и может позволить себе жить на Беверли-Хиллз и быть похороненным в Нью-Йорке. Он безотказно помогает всем своим соотечественникам, обращающимся к нему за помощью. Он богат и настолько популярен, что две известнейшие фирмы по производству роялей дерутся между собой за право погрузить на борт океанского круизера белоснежный концертный рояль для путешествующего копмозитора.
А дождь продолжает лить как из ведра, я выбираюсь из дебрей на пустое, но хоть как-то освещенное шоссе, уже совсем на другом конце нашего города. «Вы слушали Первый концерт для фортепьяно с оркестром Сергея Рахманинова. Неплохо, не правда ли?»