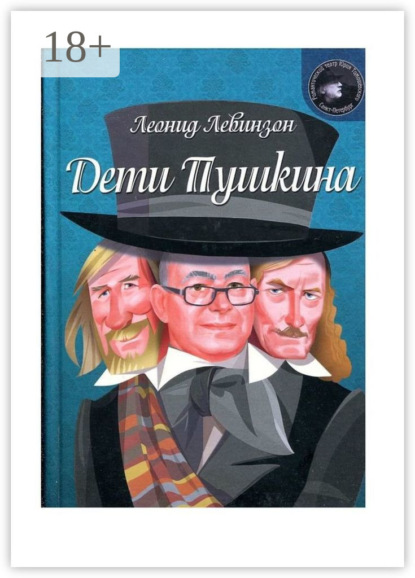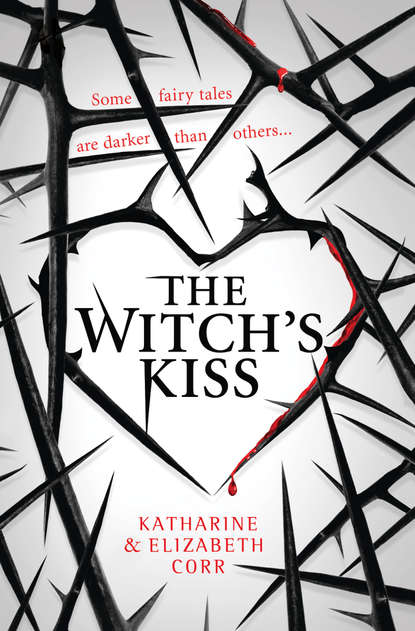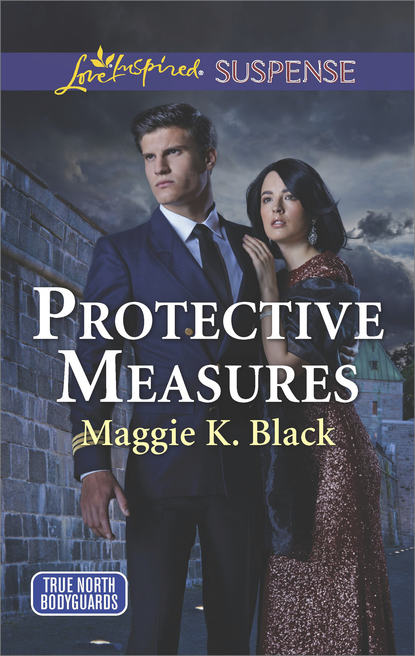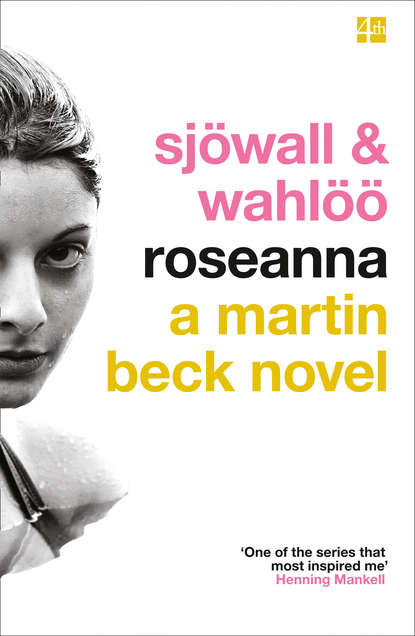- -
- 100%
- +
– Хороший пацан! – Определил Борисик. – Слышь, Лариса, а где профессор?
– Гуляет с собакой.
Борисик, чутко прислушиваясь к себе, поднялся с дивана.
– Кажется, стою, – сказал неуверенно.
– Кстати, я недавно Ваню Самохина видела, – сообщила жена.
– Ваню? Где?!
– На перекрёстке у «Кибуц Галуйёт». Он там милостыню просит.
– Милостыню? – Борисик несколько мгновений помолчал. – Пожалуй, я к нему съезжу. Подкину Тихомирова и съезжу.
Борисик стал надевать туфли.
– А завтракать? Твоя яичница?
– Да я быстро.
– Боря, но он же сам от нас ушёл.
– Жалко мне его, – насупился Борисик.
Несмотря на неприступный вид, Борисик очень часто с успехом заменял мать Терезу, заботясь обо всех, кого встретил на своём пути. Так, в своё время он дал приют пропившемуся кишиневскому журналисту Ване Самохину, а сейчас у него проживал оказавшийся без средств к существованию профессор Эдуард Альбертович Козлов. Совершеннейший небожитель, Эдуард Альбертович интересовался в жизни только русской историей и не умел купить булку хлеба без того, чтобы не потерять сдачу. Если бы не Борисик, он бы, пожалуй, погиб.
Борисик, наконец, надел туфли и пошел к Ладе. Лада, вся в диких пятнах и с отвисшим железом, выглядела хуже стоящего рядом мусорного ящика.
– М-да, – угрюмо подумал Борисик, – не хочется, а придётся покупать что-то новое.
Подъехав к Тихомирову, Борисик любовно похлопал пальцами по физиономии очень правого политика, чей портрет красовался в верхнем углу ветрового стекла Лады.
Политик стойко вытерпел.
– Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! – Соочувственно заявил ему Борисик и открыл Фиме дверцу.
Интеллигентный Фима, стараясь не касаться ничего лишнего, аккуратно сел, ладошкой разогнал дым и начал искать, куда застёгивается ремень безопасности.
– Дай сюда… – Борисик зацепил Фимин ремень своим.
– Хочешь, машину подарю? – Спросил неожиданно.
Фима удивлённо посмотрел.
– Какую?
– Вот эту! – Борисик в роли дарителя приобрёл поистине величавый вид. – В которой мы сидим!
Фима пальчиком осторожно дотронулся до свисающих проводов.
– Большое спасибо, только я воздегжусь.
– Почему? – Удивился Борисик. – Она же ходит!
– Понимаешь, Борис, у меня ведь и пгав нет… – Объяснил Тихомиров.
– Жаль, – Борисик задумчиво почесал подбородок, – а то мне её так и так выкидывать.
Высадив Фиму и подъехав к перекрёстку, Борисик сразу увидел Самохина. Одетый в тряпьё, зажимая в руке пластиковый стаканчик с мелочью, Ваня трясуче подскакивал к машинам и стучал в быстро закрывающиеся стёкла. Но, несмотря на повторяющиеся отказы, настроение у Вани не портилось. Открывая чёрный, со сгнившими пеньками зубов, рот, бывший журналист без конца смеялся визгливым захлёбывающимся смехом, и, игрушечно кланяясь, вздымая руки, салютовал проезжающим.
Борисик, приткнув машину на обочине, подошёл к нему и поморщился от запаха давно не мытого тела.
– Ваня?
Самохин повернулся. К немытому телу добавился перегар.
– Ваня, – с упрёком начал Борисик, – ты тогда ушёл, ничего не сказал…
– Извини… – Самохин икнул. – Ты здесь по делу или как?
– Может, ты вернёшься?
Самохин хихикнул:
– Не вернусь.
– Ваня, что ты с собой делаешь? Ты же был известный журналист, ещё не поздно выправиться.
– Не вернусь.
– Пропадёшь же! – Борисик разозлился.
– Ну и пропаду! – Рассмеялся безумным смехом Самохин. – Моя жизнь, что хочу, то и делаю! Свобода! – И, приплясывая, закружился. – Свобода! Свобода!
Борисик попятился. Самохин замахал руками:
– А вот, кстати, и друган мой подвалил… Знакомься!
Будто из воздуха перед Борисиком соткался, в майке и клетчатых брючках, грязный длинный тип с наглой ухмылкой и мелкими курчавыми волосами. Закривлялся, дёргая тощими ногами:
– Алик я, Алик!
Борисика передёрнуло.
– Ну, нашёл Ваню? – Возясь со стиральной машиной, подняла голову Лариса, когда Борисик вернулся.
– Нет, – буркнул Борисик, – не было его там. Знаешь, – сказал, помолчав, – что-то мне не можется, давай в Лашон съездим? Из наших кого-нибудь возьмём?
– Только надо профессору сказать, – Лариса выпрямилась.
– Он что, сам не поймёт, что мы уехали? Дверь откроет, ребёнка кормить есть чем.
Расположенный около Иерусалима монастырь молчальников Лашон славился не только великолепным парком, но и молодым вином собственного производства. Торговля в монастырском магазине шла бойко, и вино с крестами на этикетках легко и быстро перекочёвывало в мирские руки. Благоухали цветы, высилась колокольня, молодой француз считал в магазине деньги, над деревьями, монастырём, магазином плыл колокольный звон.
Борисик с Ларисой, мной и ещё одной иерусалимской поэтессой с бледным красивым лицом устроились за деревянным столиком около самого забора, ограждавшего монастырские владения.
– Слышали? Аня умерла. Передозировка.
– У неё вроде дочка осталась?
– Осталась.
– Всего двадцать пять лет, – почти прошептала поэтесса, – я знала её. Ей было двадцать пять лет. И всё из-за наркотиков. Теперь на кладбище в Гиват Шауле.
– Что ж, – угрюмо сказал Борисик, – больше ничего плохого с ней не случится. Во всяком случае, она лежит в Иерусалиме.
– Ничего не успела.
– Почему не успела? – Борисик устало потёр глаза. – Успела. Мы же вспоминаем? Значит – успела.
– Мы? – Иронически отозвалась поэтесса. – Мы?!
– А что ещё сказать? Была. Умерла. Жаль. Да, жаль. Посмотрим, что о нас скажут.
– Я недавно у неё была, кто-то принёс и прикрепил к камню чёрный бант. Страшно смотрится.
– Никак не смотрится, – вставил я, – бант и бант.
– Что-то часто звонят…
Поэтесса закурила. Из ворот монастырских владений показался, одной рукой тяжело опираясь на клюку, а другую пряча в складках рясы, старик с длинной седой бородой. Несмотря на общую дряхлость, он обращал на себя внимание крупным, угрюмо страстным, истовым лицом. Вдруг старик вскинул глаза, и меня буквально пронзил их яростный блеск, правда, немедленно сменившийся мрачной смиренностью. И лицо его сделалось ещё исступлённее.
– Это и есть отец Сергий?
– Да, – благоговейно прошептала Лариса.
– Сколько он здесь?
– Говорят, чуть ли не со дня основания.
Опять поплыл колокольный звон.
Поэтесса закурила.
– У нас Семёныч, – сказал с яростью Борисик, – и крещён, и обрезан.
Поэтесса ахнула:
– Но так же нельзя!
– Можно, – поморщился Борисик, – людей убивать нельзя. Понавыдумывали глупостей…
Дома, в родном сельском Азуре, милым жёлтым светились окна. Борисик толкнул дверь, вошёл. Эдуард Альбертович, позёвывая, сидел под абажуром.
– Семёныч спит? – Спросила его Лариса.
– Спит. – Кивнул профессор.
– Эдик, поставь чай…
– Сейчас.
Они сели в маленькой Борисиковой кухоньке. Чуть позже послышался увлекающийся голос профессора, ясно смотревшего простодушными глазами.
– Знаешь, Борис, ведь совсем не доказано, что цивилизация нравственная вещь. Это ещё Эмиль Дюркгейм высказал. В наше время, я думаю, его деликатное высказывание можно было бы и усилить. Либертарианство в своём порыве просто сложило добро и зло, но в итоге получился этический ноль, который многим пришёлся по душе. Человек взялся господствовать над противопоставленностью добра и зла, не обладая при этом никакими способностями. А ведь такой способностью, ещё Мартин Бубер отмечал, обладает только Творец! Человек же растворяется, просто растворяется в этой противопоставленности.
Борисик молчал.
6.
Год назад я пытался изучать каббалу. Но это ничем не кончилось. Наоборот, попытка приблизиться к знанию вместо успокоения привнесла страх, уж слишком жестокими показались многие понятия.
– Что есть добрый человек? – Обводя горящими глазами слушателей, говорил учитель, и его бледное лицо с чеховской бородкой подёргивало тиком. – Да просто биоробот. А вот преодолеть собственный эгоизм – работа!
– Что человеку нужно? – Продолжал. – Зарабатывать ровно столько, чтобы не быть нищим.
– Искусство? – Смеялся. – Один из видов самоудовлетворения.
– Для чего мы занимаемся каббалой? Не из-за священного трепета, а только ради себя. Наслаждение и ещё раз наслаждение – принцип жизни.
После занятий люди выходили под усыпанное звёздами иерусалимское небо, ждали, пока учитель в своём поношенном чёрном костюме закроет двери, пожмёт по очереди руки и, мелькнув пятном белой рубашки, одиноко, быстрым шагом растворится во тьме.
Я недолго выдержал, месяца два, и сломался в день Независимости. В пересыщенном жёлтым светом неуюте с резко вылепленными чашками недопитого кофе на столах и нахохленными слушателями учитель вещал и вещал, а снаружи гремел салют, бил в закрытые окна и своей упругой волной приоткрыл одну из створок, впустившую победный гром, смех и восторженные крики.
– Закройте! – Учитель недовольно дёрнул щекой и с силой продолжил начатое. – Есть только два пути: путь Торы и Путь страданий.
– А Холокост? – Спросил я.
– Чем глубже болезнь, тем сильнее лекарство! – Сухо ответил и так вцепился в спинку стула, около которого стоял, что побелели костяшки пальцев.
– Значит, лекарство? – Я свирепо переспросил.
– Да. Ещё хотите что-то узнать?
У меня закружилась голова. Я встал и вышел.
Нет, время не прошло даром. Чтобы было уважительнее, меня научили писать слово Б-г с большой буквы и через чёрточку. А это, сами понимает, достижение.
В Израиле все боятся Б-га. Он очень явственно присутствует на этой земле, и особенно в Иерусалиме. Мне нравится Иерусалим. Несмотря на восточность, мусор и возникающую в неожиданных местах колючую проволоку – наследие Британского мандата. Сейчас эти ржавые шипы – история. Тут всё очень быстро становится историей. События так пригнаны друг к другу, что нет ни малейшей возможности передохнуть. Война закончилась, мёртвые в земле, раненые по госпиталям, в правительстве очередной коррупционный скандал, палестинские соседи стреляют по нашим городам ракетами, президент обвинён в изнасиловании.
Не Швейцария.
Но сегодня я в гостях у высокого широкоплечего человека со спокойно смотрящими тёмно-серыми широко расставленными глазами, бородкой, и зачёсанными назад начинающими седеть тёмно-русыми волосами. По своей однокомнатной крохотной квартирке он, едва вмещаясь, двигается осторожно и в то же время очень ловко. Из обстановки два дивана, мольберт, гитара и ещё пиано, да, точно пиано – механическая штука, на которой можно задать мелодию. Во всю стену образ Иисуса на бумаге.
Хозяина, как и меня, зовут Алексей, и он, как мне кажется, гораздо более настоящий Алексей.
– Будете яблочный сок? – Спросил Алексей. В его крупных руках маленькие неказистые яблочки. – Я нашёл тут рядом рощицу и собираю. Маленькие такие, смотрите, почти райские. Делаю из них сок.
– Очень полезно! – Согласился Гриша, мой молодо выглядящий попутчик с восточными чертами лица и длинными волосами, убранными в косичку. – Чур, мне первому!
– А вы?
– Не хочу, спасибо.
– Но это же сок. – Терпеливо объяснил Алексей. – Вкусный, сладкий, фруктоза. Будете?
– Да, я не очень.
– Такой сок чудесный, неужели совсем не попробуете?
– Полезный! – Добавил Гриша.
Я пожал плечами.
– Смотрите, из этих маленьких яблочек, сам собирал.
– Ну, давайте.
Вот пристал. Почему-то ему важно верх взять. Но сок действительно вкусный и не очень сладкий, скорее терпкий.
– Терпкий, терпкий… – Подтвердил Алексей, поглаживая бородку.
Алексей пять лет жил в вади Кельт в пещере. Исходил пешком всю Россию и где-то на перекладных познакомился с Гришей, тоже путешественником. Оказался здесь в Израиле, и глупое государство вытащило его из пещеры, и дало государственную квартиру. Теперь Алексей озабоченно прикрывает окно и жалуется:
– Всё время простываю!
– Как же в пещере вы жили?
– Жил. Там медленно нагревается и медленно остывает, перепадов нет.
Достал тетрадку и испытующе посмотрел своими спокойными глазами.
– Я вам этюд покажу!
Надел очки. Наклонил голову к тексту, длинные волосы упали вперёд.
– «Иисус Христос! Как его осмыслить? Как воплотить? Современность не желает принимать Иисуса. Гонит его прочь. А я? Кто я? Я сознаю, что и я гоню Его от себя. Молчаливый взгляд Иисуса. Я чувствую себя дрянью. Но надо как-то подниматься из этой дряни. Счищать её с себя, соскребать. Руки бессильно падают. Я чувствую себя бессильным».
Медленно снял очки. Взял гитару и, уходя в себя, что-то тихонько начал напевать.
– Вы путешествовали? Расскажите?
Задумался. Отложил гитару.
– В Абхазии я был послушником у пустынника отца Евлампия. Я его как увидел, на колени упал. Силуэт зыбкий, и сквозь него солнце просвечивает. Знаете, в чём смысл послушничества? – Спросил вдохновенно.
Я пожал плечами.
– Ты отрешаешься от своей воли, чтобы обрести свободу, избегнуть участи тех, кто всю жизнь прожил, а себя так и не нашёл.
– А где вы обитали? В землянке?
Алексей поднял недоумённый взгляд. Почувствовалось, что ему не понравился этот практичный вопрос.
– Жили в хатке, – ответил, помолчав, – её монахи все вместе делают. Валят лес, делают чурбаки, а из них тешут доски. Ставят четыре кола, между ними доски, потом второй ряд, набивают внутрь мох. Прилаживают крышу – всё, хатка готова, монах заходит внутрь и начинает жить. Кстати, досочки эти получаются очень ровные, как они это делают, я так и не понял.
– Алексей, скажите, а что самое трудное?
Алексей снова задумался.
– Пожалуй, проснуться в час ночи на молитву. Уж очень холодно вылезать даже из такого тоненького одеяла, какое есть. Вылезаешь, зажигаешь буржуйку, начинаешь молиться и вдруг понимаешь, что тишина вокруг не тишина квартиры или города, где все спят, а что вокруг действительно никого нет! Хотя в пять тоже трудно просыпаться. Потом послушничество – колешь дрова. Зимой снег такой, что любой поход может закончится смертью. Тропки узенькие, около сосен ледяные полыньи – сосна тянет на себя тепло, и около неё в диаметре три-пять метров ледяные такие ловушки. Поскользнешься, и всё – пропал. Пропасти, обледенелые склоны. Зуб заболит – помирай. Один монах пошёл так в гости, вышел, когда светало, пришёл затемно, а всего-то было три километра.
Вообще, монахи забираются настолько высоко в горы потому, что прячутся от охотников, горцы – дикий народ, грабят, издеваются. Могут, например, ведро отобрать – нужная вещь в хозяйстве, туда положить что-то можно. Опять же милицейские облавы – сразу две статьи давали, бродяжничество и нарушение паспортного режима. Живут среди одного лесного зверья.
Алексей рассказывал уже не для нас. Его лицо озарилось внутренним светом, глаза затуманились. Он вновь переживал своё послушничество.
– Сидим как-то со старцем, вокруг красотища неописуемая. Высокие мачтовые сосны в три обхвата, между ними деревья помельче и вздымающиеся скалы. Осень, всё усыпано красными, жёлтыми листьями.
– Отче, – говорю, – как здесь красиво!
– Эх, Алёша… – Ответил мне старец. – Если б ты знал, какая красота может быть внутри нас самих…
Алексей порывисто выдохнул.
– Слаб я. Ушёл. Возвратился к той жизни, от которой бежал. Как сейчас вижу: отдаляясь от меня, в небольшой хатке-келье, затерявшейся среди огромных сосен, сидит, кутаясь в старый плащ, мой старец и читает истрёпанный псалтырь, перелистывая жёлтые, почерневшие по краям страницы.
– Сейчас вы, получается, тоже не выдержали…
Алексей очнулся.
– Ну, в общем, да… – Усмехнулся. – Если вам хочется так считать.
Зашарил руками возле себя, опять надел очки.
– Ещё один этюд.
«Сегодня убили десять палестинцев. Они, ели, пили, любили, они ещё ничего не знали, но кто-то выстрелил, и удивлённая душа покинула разрушенное тело. У убийцы одна мысль – здорово срезал. У него утром тоже болела душа, но он никак не мог понять своё состояние, потом успокоился и срезал. Те, кого убили, мечтали жить, любить, покачать ребёнка на руках. Но их срезали. Просто срезали».
– Алексей, их правильно срезали. Это наша земля.
Алексей закрыл глаза. Открыл. Сказал ровным голосом:
– Я говорю об общечеловеческом, покиньте мой дом.
Я встал.
Когда мы пошли обратно, Гриша меня упрекнул:
– Зачем ты так? Я тебя привёл, хотел познакомить, а ты его обидел.
– Разозлил он меня. Извини.
Подул ветер. Мы стали спускаться к Цомет Пат. Я искоса посмотрел на спутника, отчётливо видную синюшность под его глазами.
– Гриша, а ведь тебе очень идёт твоя косичка.
Гриша по-детски улыбнулся и сразу растаял.
Но тут внезапно огнём полыхнуло небо, и на горизонте показался огромный ярко-красный петух. Раскинул крылья, открыл клюв и вывел томительно-страшную однотонную ноту.
– Гриша! – Я остановился. – Сегодня же день памяти жертв катастрофы! А я забыл!
Дрожащая, въедливая, вытягивающая нота впивалась в сердце, нервы, мозг, одна минута, две минуты. Кончилось. Всё. Петух ещё раз взмахнул крыльями, осветив угасающим закатом тёмно-голубой горизонт, и пропал.
– Ты видел?! Видел??
– Что? – Не понял Гриша. – Что я должен был видеть?
– Да ничего. – Я неожиданно успокоился. – Показалось.
В какой-то особой тишине мы пошли дальше. Говорить не хотелось, Гриша что-то вздыхал, у него упало настроение. Уже перед тем, как расстаться, я его спросил:
– Гриша, вот ты тоже много путешествовал, а сам встречал отца Евлампия?
– Откуда… – Гриша махнул рукой. – Но он очень известная личность, даже в интернете есть.
– Ссылку дашь?
Дома я открыл нужный сайт и долго смотрел на фотографию иеросхимонаха Евлампия Сорокина: на лавочке под соснами сидел маленький сгорбленный человечек с лицом, усеянным мелкими морщинками. Седенькие волосы сохранились лишь на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, ясно смотрели доверчивые глаза. При этом старец улыбался такой действительно светлой улыбкой, что у меня защемило сердце. А потом я стал читать.
«… Россия в опасности! Если в России победит масонский глобализм, Православной Церкви не будет! Масоны хотят создать космополитическое общеземное государство антихристово во главе с Израилем и его богомерзким царем антихристом. И я убогий, маленький и грешный Евлампий, вновь ударяю в набат, желая спасти и пробудить спящих людей от великой опасности погибели. ЦРУ само взорвало Пентагон, и специалисты-хакеры Пентагона торпедировали самолетами высотные здания всемирного торгового центра. Там ни один еврей не погиб – знали. Наши „российские“ правители и спецслужбы хорошо сыгрались с чеченцами и разыгрывают кровавые спектакли жесточайших убийств детей и взрослых. Но Господь наш Иисус Христос, Бог богов, Господь господей скоро грядет с великим Воинством Небесным. Придет и убьет антихриста Духом уст своих, и поймают всех слуг его и ввергнут в озеро огненное…»
7.
На Шенкин медленней, чем во всём Тель-Авиве, наступает ночь. Но, уже наступив, никак не желает уходить, и поэтому, когда совсем рядом на Алленби уже светло, вовсю ходят автобусы и работные люди с резкими движениями и решительными лицами заполняют перекрёстки, Шенкин всё ещё сладко спит в тихой дымке своих сквериков. Среди общего сна медленно бредёт уборщик в фирменном синем костюме, с жёлтой метлой в руке, толкает вперёд зелёный пластмассовый бак, останавливается у разбросанных ночью ненужностей и сосредоточенно думает:
– Поднять, не поднять? Забрать, не забрать?
Не находя ответа, толкает бак и себя дальше.
От его громких мыслей у облицованного мрамором тридцать девятого дома просыпается и поднимает голову с матраса старая бездомная женщина по имени Катюша Маслова. Всю ночь она сидела на набережной и жгла носок. Дым, дым, дым. Под утро поднялась – грузная, с седыми волосами во все стороны, пришла на улицу Шенкин, бродила с детской коляской между магазинами, барами, закрытыми загадочными клубами, подбирая брошенные мальчиками и девочками цветные ленточки, и вот сегодня её голова украшена этими мимолётными блёстками молодости. Кряхтя, встала, заслонила собой мусорный ящик с нарисованными на нём аляповатыми цветами, замычала нечленораздельно, погрозила уборщику рукой:
– Моё! Иди отсюда!
Утром в доме тишина. Не доносится ни звука, и лишь старый грязный миллионер Семён в кухне заваривает себе чай. Кряхтя, собрал в чашку с отколотой ручкой использованные пакетики, налил из чайника кипяток и, смешно вытягивая губы, попробовал горячую жидкость. Но чего-то ему не хватило, он встал из-за стола, открыл шкафчик над закопчённой плитой, отыскал между множества пустых баночек и цветастых старых коробок надкусанную, припрятанную в глубине шоколадную конфету и, по детски улыбаясь, засеменил обратно к чаю.
– Матвей?
– Да.
– Привет, пошли купаться?
– Ладно.
– Тогда жди, мы с Катей и Виталем уже рядом.
Мы вошли в подъезд и открыли дверь в коридор – сразу потянуло гнилостным запахом, и обрисовалась освещённая из-за спины фигура неряшливого, в лохмотьях, старика, любопытно смотрящего на гостей.
– Семён, здравствуйте! – Поздоровался Виталий, первым пробираясь между ставшими ещё больше кучами барахла, и толкнул дверь к Матвею.
Во всегда полутёмной комнате с окном, выходящим в сад, Матвей, сидя на кровати, медленно, как и всё, что делал, надевал сандалии.
– Ну, и как ваша Воронья слободка поживает? – Задорно сверкнула голубыми глазами Катя.
Матвей буркнул:
– Нормально, а ваша? – И недоумённо начал оглядываться. – Куда-то мои ласты подевались…
Мы синхронно засмеялись.
– Катька, засекай время, он точно ещё час провозится!
– Ребята, – Катя, нагнув голову, с интересом смотрела, как Матвей медленно ищет рукой под кроватью, – ребята, вы не понимаете, ласты единственное, что у него есть.
– А нечего зубоскалить! – Сердито заявил Матвей, подняв голову. – Это питерская вещь, таких сейчас не делают.
Встал на стул и снял ласты со шкафа.
– Ну, слава Б-гу, – облегченно выговорил, – а то я подумал, что потерял, как трубку. Ребята, мне надо на Пишпишим сходить.
– Сходим, – благодушно отозвался Виталий.
Катя кивнула.
– Матвей, стоп! – Я загородил старенький компьютер. – Выходить пора!
Матвей обречённо попросил:
– В голову строчка пришла.
– Потом запишешь.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.