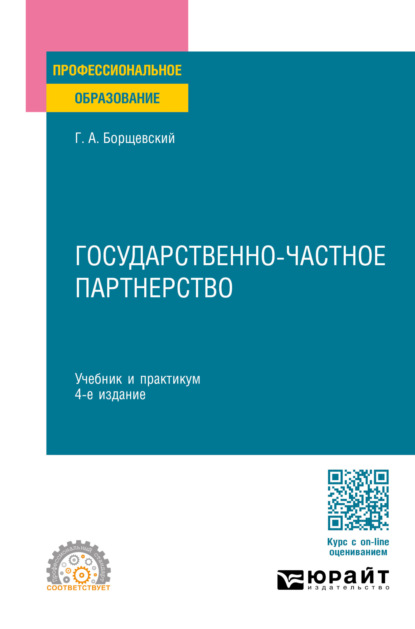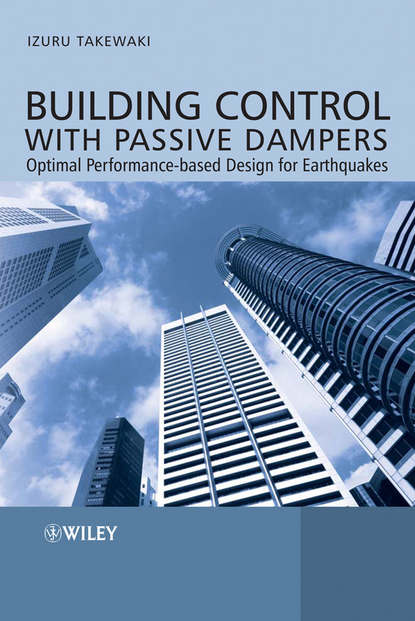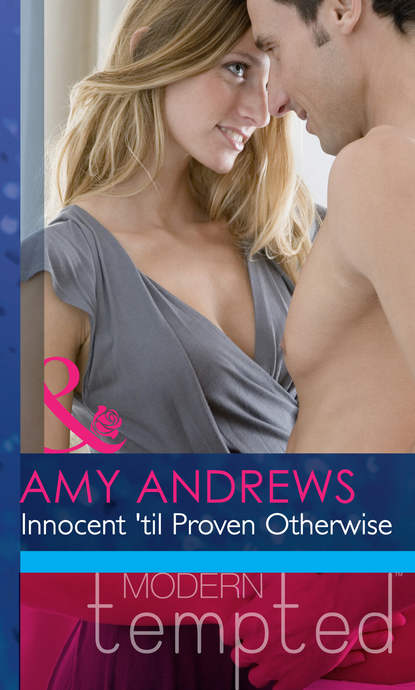Рождественские рассказы

- -
- 100%
- +

© А. С. Степанова, составление, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
* * *Рождественские рассказы
В департаменте
За два дня до Рождества чиновники N-го департамента, получив награду, окончательно потеряли способность заниматься делом. На столах были разложены бумаги, дела в синих обложках, но никто за работу не присаживался. Началось усиленное курение папирос, хождение из одного отделения в другое, разговоры о гусе, о поросенке, о ветчине, о елке, о детских игрушках, о подарках вообще и разных предпраздничных приготовлениях. Даже столь любимое занятие на службе, как чтение газет, и то было оставлено на этот раз. В счетном отделении даже книги лежали открытыми кверху ногами. Все ждали, когда уйдет директор, чтобы разбежаться, но директор, как назло, не уходил. Сидели и начальники отделений по своим местам, но делами также не занимались, а кто составлял для себя смету домашних праздничных расходов, кто писал карандашом реестр праздничных подарков и предметов, нужных по хозяйству.
Вот в отделение входит бакенбардист с проседью в волосах, останавливается перед окном и смотрит на градусник.
– Хорошо, кабы такой мороз на Рождестве постоял. Можно бы съездить прокатиться на тройке в загородный ресторан.
– Михаил Павлыч, не ушел еще наш Вельзевул? – слышится от стола, около которого лысый бородач в очках покуривает папироску.
– Директор-то? – откликается бакенбардист. – Сидит еще, и долго просидит. Сейчас потребовал дело из второго отделения. Каракулев снес ему, но по ошибке засунул туда список покупок, который ему дома жена составила. Каракулев рассматривал его, заторопился, заторопился и думает, что сунул в дело, потому что списка у него нет.
– Это ничего. Это даже хорошо. Наш по крайней мере узнает список нужд чиновников. И чего он сидит! – вздыхает молодой чиновник с бородкой Генриха Четвертого.
– Вдовый чиновник, оттого и сидит. Вдовый и бездетный. Что ему дом? Отсюда, поди, поедет в сельскохозяйственный клуб обедать. А здесь, если вот тебе надавали из дома поручений по самую макушку, да еще просили, исполнив эти поручения, пораньше прийти обедать, так поневоле будешь торопиться скорей убежать из нашего чистилища. Я вот теперь стою и думаю: как это я все успею сделать к шести часам вечера? Дольше уж я не могу заставлять моих домашних ждать меня к обеду, – произносит лысый бородач.
– Нет, я все это жене поручил, – доносится от другого стола. – С моей стороны только разве ей и ребятишкам подарки…
– A y моей жены флюс, второй день у ней щеку раздувает. Она винную ягоду, в молоке сваренную, за щекой держит, так какие тут закупки! До закупок ли! Просила меня окорок ветчины купить, гуся, поросенка, елку ребятишкам, игрушки…
– О-го-го! И все это сегодня?
– Да завтра-то когда же?.. Завтра уж сочельник… Завтра надо уж запекать окорок, а не покупать его, из поросенка заливное делать, елку украшать.
– Да-да… Действительно… Так что же вы? Убирайте бумаги и уходите, – говорит американская борода с бритыми усами.
– Неловко. А вдруг он разлакомится и какое-нибудь еще дело потребует для просмотра, а дело это окажется в моем столе. «Где Петр Иваныч?» – «Ушел». Неловко тогда будет.
– Помощник ваш подаст дело.
– Ну, все-таки неловко. Ведь вы вот тоже не уходите, а я по лицу вижу, что и вам так же нужно уйти, как и мне.
– Да нужно-то нужно, что говорить! Нужно купить жене на платье – вот что нужно. Ну, духов, одеколону… Потом уж я и себе сбирался преподнести на елку золотые очки. А ведь вам, видите, и окорок, и гуся, и поросенка. Это совсем особь статья. Вы и окорок дома запекаете или варите?
– Запекаем. Жена не любит вареной ветчины.
– Ах, напрасно! Вареная ветчина – это блаженство. Вся Москва ест по трактирам вареную ветчину, а уж москвичи насчет ветчины знатоки.
– Жена не любит. Что ж вы поделаете, если она не любит! Вот поросенка мы варим и делаем заливное.
– А я поросенка люблю только жареного, только с кашей, но при этом чтоб каша представляла из себя фарш с луком, с перцем и с рублеными грибами. Да утробу-то эту начинить хорошенько, а кашу прожарить, лук истомить. Божественно!
Лысый бородач начал причмокивать.
– У нас гусь, чиненный кашей, будет в первый день Рождества к обеду, – сообщил бакенбардист.
– А вот, по-моему, гусь должен быть непременно с капустой, а то так с яблоками. И гуся я непременно люблю так, чтобы он был распарен. У меня дома как делают гуся? Пожарят, пожарят его на противне, а потом в котел, обмазанный маслом, крышкой прикрыть и жарить, и парить. Тут и кислая капуста, которая у него в брюхе распарится, и он сам. И гуся этого до того нужно распарить, что вот, например, за кость ноги его взял, а мясо с кости с него как чулок слезло бы. Вот это гусь! Это называется – по-польски. Жену в Западном крае научили так приготовлять, когда она к матери гостить ездила. Попробуйте так у себя дома.
– У меня жена ничего не любит пареного.
– Ну, значит, она ничего хорошего не любит. Индейка – вот эта птица пареной невкусна. А ветчину какую покупаете?
– Да обыкновенную.
– То есть где, собственно? У немца, у поляка или у русского? В какой колбасной?
– Просто в обыкновенной мясной лавке, на Сенной.
– В простой мясной лавке?
– Да, да, да…
– Ну, это не ветчина. Надо у немцев в колбасной лавке покупать. Тогда у вас будет настоящая ветчина. Свинство – это дело немецкое, немцы на нем собаку съели. Я не люблю немцев, но за ветчину и всякое колбасное свинство перед ними преклоняюсь. А на Сенной разве это ветчина!
– А то что же?
– Да так… Неизвестно что. Сильно прокопченная и просоленная нога борова, твердая, жилистая. На Сенной окорок покупать! Ну, батенька, вы не гурман. Гуся и поросенка вы можете покупать и на Сенной, это я допускаю, но окорок – ни-ни…
– Я даже думаю купить вместо гуся-то хорошего индюка.
– Индюка? Прекрасно, прекрасно, но индюк вам гуся не заменит.
– Знаю. Но у меня дети. Боюсь, как бы гусь слишком жирен не был. Индюк все-таки…
– Гусь… Жирен… Да где вы нынче жирного гуся найдете? Их нет. Нынче везде мужицкий сухой гусь, а уж прежнего помещичьего гуся нет. Позвольте… Ну а как у вас индюка приготовляют?
– Да просто изжарят.
– С чем? С чем подадут-то?
– Ну, с картофелем. Потом к нему соленые огурцы.
– Это, батюшка, значит портить добро. Кто же индюка с картофелем ест! Вы, пожалуй, еще с тертым… С каштанами индюка надо кушать, непременно с каштанами. А вместо огурцов – английские пикули, что вот возьмешь, а проглотить и не можешь, до того у тебя весь рот спалит.
– Так что же тут хорошего, если проглотить не можете? – улыбнулся бакенбардист.
– Эффект, вкусовой эффект. Потом проглотите и спасибо скажете. Но вот первый-то момент… А потом вам вкус освежит. Почувствуете эдакую встряску организма… А проглотили – и сейчас у вас из глаз слезы… Ну, тут сейчас кусок индейки в рот, затем каштан в рот, и чувствуете неизъяснимое блаженство. Попробуйте так поесть и вовек с этим блюдом не расстанетесь.
– Ну, я не гурман. Я такой тонкости в еде не понимаю. Мне и так вкусно, – сказал бакенбардист и прибавил: – Однако я пойду закупать провизию. Скоро три… Авось он меня сегодня не спросит. Прощайте.
– Прощайте. А гуся и индейку попробуйте по моему рецепту. Распарить гуся так, чтобы с ноги мясо как чулок снималось. Помните, как чулок…
Бородач протянул сослуживцу руку. Тот стал уходить. Вдруг навстречу ему вбежал жиденький чиновник с капулем на лбу и возгласил:
– Павел Иваныч! Идите. Директор требует дело о поставке строевого леса купцом Бобруевым, который забраковали при приеме. Мы ищем, ищем это дело и только сейчас вспомнили, что оно у вас.
Бакенбардист плюнул.
– Тьфу ты, пропасть! – сказал он. – Вот разлакомился-то на работе. И какие теперь дела перед праздниками! Дело о поставке строевого леса… Да кой шут знает, где оно! Мы, кажется, передали его не то в строительное, не то в счетное. Там оно. И подрядчик-то Бобруев давно уже умер. Ну где я его теперь разыщу? Теперь перед праздниками дела – гусь, окорок, поросенок, а вовсе не о поставке строевого леса, – продолжал бормотать бакенбардист и неохотно направился в свой стол.
Перед Рождеством
Рождественский сочельник. Мясники царствуют. Герой дня – пудовый окорок ветчины. Лучший подарок для семейного нетребовательного человека – мороженый гусь. Ласкающая взор картина для простого человека – окаменелая от мороза передняя часть борова, стоящая на снегу, как изваяние. Умиляющий душу предмет – младенец свинячьего рода – поросенок. А затем уж идут атрибуты этих праздничных снедей или их свита – мороженые индюшки, куры, тетерки, рябчики. Рынки завалены этой мороженой провизией. Где есть мясная лавка – перед ней горы мороженой провизии, разложенной в больших корзинах, ящиках или так наваленной на рогожах и пересыпанной снегом. Все это изукрашено рождественскими елками на крестах, которые нынче сделались также предметом торговли мясных и курятных лавок. Торговля в самих лавках происходит только наполовину. Приказчики толпятся около лавок, где лежит мороженая провизия, – и здесь-то происходит настоящий предпраздничный торг. И какого, какого только тут народа нет! Дама в собольем воротнике, баба в пестром клетчатом байковом платке, купец в еноте, купец на лисьих бедерках, придворный лакей в форменном пальто и форменной фуражке, разыгрывающий чиновника, артельный староста в суконной чуйке на овчине, романовский нагольный полушубок в валенках, салопница в старомодном ватном капоре. Все это закупает мясную провизию к празднику. Кухарок уж не видать. Явились исключительно хозяева или хозяйки. Мороз настоящий, рождественский. Он скрыл недостатки провизии и все предметы сбываются без брака. Приказчики с каким-то восторгом продают товары. Так продают они только перед Рождеством в хороший мороз. При говоре слова как-то проглатываются, что составляет особый приказчицкий шик. Каждый покупатель именуется чином выше. Простой мастеровой сапожник, от которого разит кожей и ворванью, зовется хозяином, нагольный полушубок – купцом, всякая форменная фуражка – высокородием, суконная чуйка – подрядчиком, пожилая баба – маменькой.
Окаменелые от мороза бараны с ободранной шкурой и с оставленной только на головах прической а-ля капуль слушают все это и умиляются.
– Енот! Енот! Господин енот, вернитесь, – окликает приказчик в желтых рукавицах покупателя.
Осанистый купец в енотовой шубе с воротником, поднятым кибиткой, и с примерзшей к нему бородой останавливается и вопросительно смотрит на торговца.
– Желаете за суповых кур последнее слово? Рубль десять за пару и ни копейки меньше! – объявляет торговец.
– Девять гривен.
– Позвольте! Да ведь кура-то правленная, тверская. Вы прибавьте что-нибудь. Верьте чести, за правленную нигде дешевле не заплатите.
– Ну, рубль.
– Эхма! Где наше не пропадало! Нет убытка и барыша – зато слава хороша! – машет рукой торговец и прибавляет: – Хорошо, извольте! Только уж для Рождественского сочельника! Четыре пары курочек?
– Три.
– Да возьмите уж четыре-то! Ведь дешевле пареной репы, а от навала люди разживаются.
– Три, три. Да нельзя ли переслать вот тут рядом во фруктовую лавку Иванова. Я там буду чай, сахар и гостинцы ребятишкам покупать, а уж оттуда на извозчика.
– Пошлем. Еще что прикажете? Рябов экономических не прикажете ли? Есть маленько порасстреленные. Повара для заливных и супов берут. Можно недорого взять.
– Не наш товар. Не по нашему вкусу. Что в нем, в рябчике-то?.. Толку мало.
– Поросеночка-сосунца не желаете ли? Такие есть младенцы аккуратненькие, что даже слеза прошибет от радости.
– Купили пару, – лаконически отвечает енот.
– Окорочек могу предложить генеральский малосольный. Такая ветчина, что восторг!
– Тоже купили. Что нынче генералы! Купеческий, настоящий купеческий окорок купили. Генералы нынче купцу не вровень. Купец об Рождестве куда лучшим окороком хвастается!
– Это точно-с… Это вы действительно.
– В настоящем месте купили, там, где специвалисты… Купили и малосольный, и с горбульком, и вес аховый. Тридцать четыре фунта без четверти. А за кур вот получите и пошлите в магазин Иванова.
– Услужить-то вашей чести еще чем-нибудь хочется, – бормочет приказчик, принимая деньги. – Ну, гуська?
– Былое дело. Сейчас в Иванову лавку гуся моего стащили. А почем индюки?
– Индюки? Один восторг – вот какие индюки есть.
– Да цена-то, цена-то?
– Чтобы услужить вашей части и без обмана – меньше двух рублей не могу вам индюка уступить. Конечно, есть каменьями и паклей набитые, так можно и дешевле взять, но этот индюк уж один восторг-с. Вот-с.
Приказчик берет из кучи птиц на рогоже индюка с вытянутой, как палка, окаменелой от мороза шеей и головой с синими щеками и подбрасывает на руках.
– За рубль восемь гривен, так приложи к курам.
– Верьте совести, только двугривенный и наживаем.
– Ну, тогда не надо.
Купец трогается в путь.
– Господин енот! – кричит торговец. – Хорошо, извольте для сочельника!
Купец расплатился, и на его месте оказалась барыня в шапочке с куницами и в пальто с куньим воротником. Торговец приподнял шапку и, глотая слова, перечислял товар:
– Курочек, рябчиков вашему превосходительству? Тетерки есть отличные, гусь мызный настоящий, индюшка банкетная, поросеночек самого невинного вкуса…
– Нет, мне елку… – отвечает дама.
– По особенному заказу есть елочки для вашей чести. Из Медного у нас поставщик. Прямо будем говорить, помещичьи, ворованные.
– Но здесь-то я ни одной хорошей елки не вижу, – говорит дама.
– Позвольте-с… Чем эта елка не елка? Вот-с… Для генеральских детей прямо…
– Орясина!
– Что вы, ваша честь! Елка самая кудрявая и первого калибра. Ведь елка, ваша милость, не веник, она не должна букетиться. Елка, понятное дело, рогатиться должна…
– Но все же она должна быть гуще. А эта гунявая такая…
– Сейчас такую точно повар для графских детей взял. А вот-с… Эта еще пофигуристее. Генеральским детям в самый раз…
– Верхушка гола.
– Верхушка? Так верхушку-то спилить можно. Зачем она, верхушка? Теперь у аристократов даже мода, чтоб верхушки спиливать.
– Вот разве что верхушку-то долой…
– Любезное дело. Статского генерала Пафнутьева изволите знать? Сейчас для их деточек взяли.
– Вот как вы врете! Пафнутьев бездетный, у него нет детей. Он даже вдовец.
– Виноват, ваше сиятельство. Стало быть, я перепутал. А эта елочка аховая.
– Ну а почем?
– Да чтоб не торговаться с вашей милостью, так как вы дамы нежные…
Торговец объявляет цену.
Начинается торг.
В рождественское утро
Дворники дома № 44 еще с вечера, то есть в сочельник, наносили жильцам дров, убрали мусор и отбросы и уж в рождественское утро были совершенно свободны.
Даже тротуарные тумбы вымазали они маслом с сажей с вечера, и для утра осталась только одна забота – слегка посыпать откосы у тротуара желтеньким песочком. Дворников было трое в доме № 44 – старший и два младших, то есть подручных, и случилось так, что ни одному из них не пришлось быть дежурным ни в ночь на Рождество, ни в рождественское утро. Всю ночь они спали спокойно – младшие в жарко натопленной хозяйскими дровами дворницкой при свете сильно коптившей маленькой жестяной лампочки, а старший, который жил с выписанной из деревни женой и двумя ребятишками, – в каморке за дворницкой, при свете лампадки, горевшей перед иконой в фольговой ризе, по бокам которой в киоте были две обгорелые венчальные свечки, перевязанные розовыми ленточками. Каморка дворника, как ни была мала, все-таки была разгорожена розовой ситцевой занавеской. За занавеской стояла кровать дворницкой пары, и сверху над кроватью висела на шесте детская зыбка в виде простого осинового корыта, с грудным ребенком, а перед занавеской, у крошечного окна, стоял стол, и на нем лежали паспортная книга и санитарная тетрадь и стояла чернильница с вечно обмокнутым в нее пером.
Старший дворник проснулся первый от удара в колокол на соседней колокольне. Он толкнул в бок жену и спросил заспанным голосом:
– Акуль!.. Никак это уж к ранней обедне?
– Спи. Чего будишь! К заутрене.
– Да так ли? Надо посмотреть, который час.
Он спустил босые ноги с кровати и вышел из каморки в дворницкую, чтобы посмотреть на часы. Часы показывали пятый час в начале.
– И в самом деле, к заутрене, – пробормотал он, напился попутно воды ковшом, висевшим около водопроводного крана, снова прилег на кровать, но уже заснуть больше не мог. В голове его мелькнули сегодняшние праздничные деньги, которые он, вместе с своими подручными, соберет по жильцам. Праздничные разгуляли его, и он стал о них мечтать.
«Хорошо, кабы рублишек семьдесят насбирать, – думал он. – В прошлом году шестьдесят два насбирали. Тридцать один мне пришлось и по пятнадцати с полтиной подручным. В прошлом году в двух номерах немки жили, а немки народ жадный. Одна тогда даже рубль дала. А теперь в этой квартире купец живет. Купец ласковый. Сколько раз я его пьяного в четвертый этаж до квартиры доводил, и наутро всегда три гривенника либо двугривенный. Потом полковница у нас жила. А она собачница. Ейные собаки у нас черную лестницу грязнят. А мы чистим ее. Так неужто уж эта на двух рублях отъедет. Вчера я говорил горничной: „Скажите госпоже полковнице, что при таких порядках нельзя. У нас дом чистый. Санитарная комиссия требует… Доктор каждую неделю ходит и нюхает“. Должна за собак рубля два отдельно дать. Я предупредил. Неужто она без понятиев к жизни!»
Дворник повернулся на другой бок и стал раздумывать дальше. Ему пришел в голову снимающий в доме лавку мясник Ерофеев, который осенью заколол трех телят на заднем дворе.
«А этот уж мне, как старшему, нынче должен дать прямо трешину отдельно. По мясной части телят бьют на дворе, по курятной кур колют, а нешто это порядок? Ведь если бы я дал знать околоточному, то и-и что бы тут было! Протокол… А затем к мировому судье… Адвокат… Штраф… Так нешто это в трешину обошлось бы?..»
Звонить на колокольне перестали. Дворник Геннадий слышал, как мимо подвального этажа дворницкой зашмыгали прохожие, идущие к заутрени.
– Пора вставать… Умоюсь, оденусь и пойду к обедне, – сказал Геннадий и стал вставать.
Кровать заскрипела. Вставая, он задел рукой жену.
– Нет на тебя угомона, – проговорила та. – Чего ты спозаранку? Ведь сегодня Рождество.
– Думаю к обедне сходить. А ты поваляйся еще да вставай самовар ставить.
– Ну вот… Уйдешь к обедне, а околоточный звониться начнет.
– Подручные останутся. Те выйдут на звонок. Большой праздник. Надо же хоть лоб перекрестить. Вернусь, так ты к тому времени приготовь ветчину закусить, что вчера колбасник мне прожертвовал. За киотой сороковочка у меня стоит припасена, так ты поставь и ее на стол, да смотри, чтобы подручные не выпили, – наставлял жену Геннадий.
– Ладно. А только далась тебе эта обедня!
– Да видишь ли… Я больше из-за шубы, чтоб шубу проветрить. А то на Николу думал одеть – не удалось.
– Иди, иди…
Геннадий подошел к глиняному рукомойнику, висевшему над ушатом у печки, и стал умываться. Проснулся один из подручных и приподнял голову.
– Я к обедне… А ты встанешь, так посыпь откосы у тротуаров песочком…
– Ладно, – был ответ.
– Да светать будет, так не забудьте лампы по черным лестницам погасить. Впрочем, к свету-то я уж вернусь.
Умывшись, Геннадий стал одеваться: надел новые сапоги с голенищами гармонией, затем – жилетку травками и новый пиджак и, повязав шею красным фуляром, полез за шубой, которая висела на стене над спящей женой. Он опять задел жену, снимая шубу.
– Вот угомону-то на человека нет! – воскликнула она.
– Да ведь и тебе пора вставать. Вот уж к обедне в колокол ударили. Дождались праздника.
В это время действительно начали звонить, и Геннадий перекрестился.
– Ну, я пойду, – сказал он, надев шубу, резиновые калоши, шапку простого бобра, и ушел из дворницкой.
Начал вставать подручный Ефим, коренастый рыжий парень с плохо растущей бородой и корявыми щеками. Поплескавшись около рукомойника, он тоже полез в сундук за новыми сапогами. Затем достал новую розовую ситцевую рубаху, пошуршал накрахмаленным миткалем, направился в каморку Геннадия и протянул руку к киоте с иконой. Акулина уж не спала и видела это.
– Ты чего там? Шиш! – воскликнула она.
– Дозволь, Акулина Степановна, деревянного маслица из бутылочки взять волосья помазать, – проговорил он.
– Знаю я ваше деревянное масло! За водкой лез. Там у мужа сороковка стоит.
– Вот те Рождество Христово – за маслом! Да вот она, бутылка-то… Смотри… Я чуточку.
Подручный Ефим налил на ладонь масла и принялся уснащать голову. Наливал он себе на руки раза три и все мазал волосы.
– Ты бутылку-то обратно поставь за божницу, а водки там не трожь… – послышался голос Акулины.
– Да неужто ж я, Акулина Степановна…
– Мне муж сказал, чтобы я его добро сохраняла. Ведь вот и масло – оно тоже денег стоит.
– Я вам ужотко пивка поднесу за него, Акулина Степановна.
Вставал второй подручный Алексей – сухощавый длинный мужик – и тоже доставал новые сапоги. Этот, прежде чем надеть, вздумал мазать их маслом с сажей, оставшимся в горшке от вчерашнего мазанья тротуарных тумб.
– Акулина Степановна, голубка, передники-то у нас чистые где? Надо передник чистый для праздника надеть, – спрашивал он жену старшего дворника.
– А вот встану, так выдам по переднику. Не горишь пока без передника, – отвечала она.
Послышался скрип кровати. Акулина вставала: надела на себя красные шерстяные чулки, польские сапоги с медными подковками на каблуках, накинула на себя юбку и тоже пошла умываться к рукомойнику.
– С превеликим праздником Рождеством Христовым, хозяюшка… – поздравлял ее подручный Ефим, расчесывая в это время смазанные деревянным маслом волосы.
– С праздником… Дай Бог всячески… чтоб, значит, в радости… – поклонился Алексей.
– Дайте лицо-то помыть, – огрызнулась она. – Чего вы спозаранку, как петухи.
Она умылась с мылом, вытерлась полотенцем, покрестилась у себя в каморке на икону и уж оттуда крикнула подручным:
– Ну, вот теперь и вас с праздником!
В это самое время на колокольне начали трезвонить.
Никитка и Калистрат
Еще недели за три до Рождества прачка-поденщица Варвара начала говорить всем и каждому из соседей по занимаемому ею с своим сынишкой углу в подвале:
– Нынче моему Никитке лафа привалила, большая лафа. Папенька крестный его, статский генерал Размазов, из-за границы приехал и живет на Фурштатской. Семь годов здесь в Питере его не было. То он на Капказе каким-то небольшим состоял, то по кислым водам по всем заграницам ездил, а теперь вот и приехал в Питер. Очень важный генерал и на груди вот какой большущий орден имеет.
Варвара, показывая величину ордена, показывала чуть не на пол-аршина.
– Вот в Рождество обряжу Никитку – пускай сходит, Христа ему прославит. Наверное, синенькую бумажку генерал ему даст, а то и больше.
– Синенькую! Хватила тоже… – скептически улыбнулся старик-сапожник, проживающий в том же подвале. – Всякому паршивцу по синенькой давать, так что же это будет!
– Не паршивцу, а крестнику, – обидчиво отвечала Варвара. – Родному крестнику. Да и генерал души непомерной. Помню я, когда мы с покойником-мужем у них в швейцарах существовали, а я родила Никитку и муж попросил его окрестить, так он мне такое платье на ризки закатил, что все прислужающие-то дивились. Рублей в десять. Право слово, рублей в десять. Шерстяное эдакое… травками желтенькими. И долго я его носила, да потом муж помер и нужда пришла, так в залог у жида оно у меня пропало. А Никитке, самому Никитке, три серебряные рубля в пеленки сунул. Рубли светленькие, новенькие, с иголочки. Нет, такого-то генерала еще поискать, да и поискать.
– Так пусть со звездой к нему славить Христа идет, коли генерал такой чудесный, – сказал безместный писарь, проживающий в том же подвале. – Клей, Никитка, звезду из цветной бумаги. Огарок туда вставим. Гореть будет. Со звездой казистее…
– Я не умею звезду… – отозвался Никитка, белокурый мальчик лет десяти в валенках и в вылинявшей ситцевой рубашонке, поверх которой была надета жилетка без нескольких пуговиц.
– Не умею! Обещай мне прожертвовать из пяти-то рублей на бутылку вина, так я тебе звезду склею. И золотой бумаги найду на бляшки и полоски.
Варвара, сидевшая в это время с Никиткой за ужином, состоящим из полубелого хлеба и астраханской селедки, отвечала за сына: