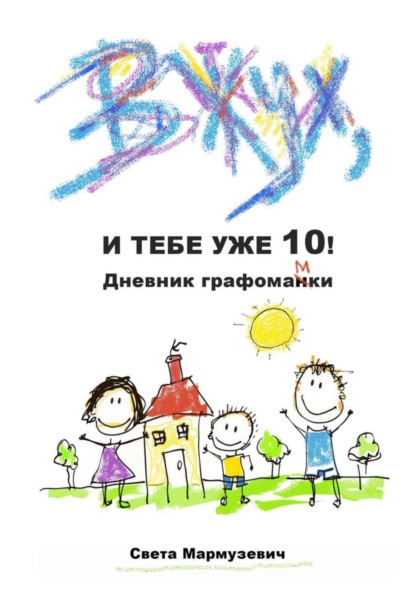Шивэй – между Китаем и Россией

- -
- 100%
- +

1. Вкус шивэя
Чжан Цзюнь сидел у панорамного окна в старой пекинской квартире, на кончиках пальцев ещё блестели жирные пятнышки от половинки сахарной лепёшки. Эту лепёшку он купил в закусочной на первом этаже – с хрустящей корочкой, которая с треском ломалась при укусе, но внутри была мягкой и пушистой, покрытой толстым слоем сахара, таким сладким, что прилипал к языку. Он уже съел две штуки, в животе было тяжело, будто засунул пропитанную маслом губку, но рука всё равно невольно потянулась к масляному бумажному пакету на столе – там оставался последний.
Чжан Цзюнь, в свои сорок два года, давно перешагнул за стандартный вес. Круглолицый, с двойным подбородком и животом, выпирающим, будто подоткнутый маленький мяч, при ходьбе его тело слегка покачивалось. Знакомые, встречая его, всегда подшучивали: «Товарищ Чжан Цзюнь, вы поправились», – и он мог лишь улыбаться в ответ, но в душе понимал, что это не просто полнота, а пустота, взращённая перееданием. Вот и сейчас, за окном городские улицы и переулки окутаны серой дымкой смога, небоскрёбы громоздятся друг на друге, провода сплетаются в небе в непроницаемую сеть, даже солнечным лучам приходится с трудом пробиваться сквозь щели, чтобы упасть на облупившиеся стены внизу и тут же быть поглощёнными тенями. Это чувство удушья было ему слишком знакомо – словно каждый раз, когда он набивал рот едой, в горле возникало одновременно удовлетворение и подавленность, будто мокрая тряпка застряла там, которую нельзя ни выплюнуть, ни проглотить.
Он был «международно известным личным медиа-блогером» – это звание он присвоил себе после ухода с работы, позже его подхватили некоторые СМИ, и постепенно оно распространилось. Каждый раз, представляясь, он чувствовал необоснованность этих слов – «международно известный», насколько же известен? Неужели у него миллионы подписчиков в зарубежных соцсетях или он получает рекламу от международных брендов? На самом деле, ничего этого не было. Так называемая «известность» была лишь небольшим наследием, накопленным во время работы корреспондентом CCTV в Москве – репортажами, написанными за годы путешествий по городам России, запечатлёнными в кадре снегами Кремля, лазурью Байкала, золотыми куполами Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Но теперь всё это стало «прошлым».
"Ты постарел, Чжан Цзюнь." – вновь прозвучал в его душе голос, ясный, словно кто-то говорил прямо у уха. Это был не вопрос, а констатация факта, и слова эти были леденящими, холодными, словно зимний ветер Москвы, что режет лицо. Он поднял руку и потрогал своё лицо – кожа обвисла, в уголках глаз появились морщинки, при нажатии пальцами чувствовалось, как подкожный жир слегка колышется. Это была не физическая "старость", а духовное увядание – подобно тому плющу на его балконе, который с тех пор, как он перестал его поливать, постепенно желтел, его побеги безвольно свисали, утратив былую жизненную силу.
Два года назад всё было иначе. Тогда его международный аналитический блог был подобен маяку в океане интернета. Каждое утро, просыпаясь, он находил в системе сотни комментариев: кто-то писал "Товарищ Чжан Цзюнь, ваш анализ невероятно глубок", другие признавались "Благодаря вашим статьям я начал интересоваться историей России", а некоторые присылали ему фотографии московских улиц с подписью "Я прошёл по маршруту из вашей статьи – здесь действительно прекрасно". В те времена он наслаждался этой "властью" – не той, что даёт должность, а тем упоением, что возникает при формировании общественного сознания через слово и объектив камеры.
Чжан Цзюнь помнил, как однажды написал репортаж о ветеране Великой Отечественной войны в России, где упомянул старого солдата по имени Иванов, всю жизнь охранявшего памятник на своей родине. После публикации статьи один читатель специально прилетел из Китая в Россию, нашёл того ветерана и прислал Чжан Цзюню их совместную фотографию. На снимке ветеран пожимал руку читателю, улыбаясь во все морщины. Тогда он чувствовал, что его дела имеют смысл, словно зажигая свет во тьме, который освещал не только других, но и согревал его самого.
Но сейчас свет надежды погас.
Чжан Цзюнь взял планшет со стола, экран загорелся, отражая его округлое лицо. Последнее видео было опубликовано три дня назад под заголовком "Исторические корни российско-украинской границы: от Крыма до Донбасса, правда за столетним конфликтом". Он потратил целую неделю на поиск материалов, перечитал свои заметки времён московских интервью, использовал в видео множество старых фотографий и собственные съёмки приграничных пейзажей. Но статистика была удручающей: всего около пяти тысяч просмотров, в комментариях лишь двадцать с лишним сообщений, в основном типа "Видео слишком длинное, не досмотрел", "Просто скажи, кто прав, а кто виноват" или "Это видео такое скучное".
Он провел пальцем по экрану, скользя по комментариям, будто прикасаясь к ледяному камню. Он вспомнил все те компромиссы, на которые шел ради «соответствия»: изменил «Сознание страдания в русской литературе» на «Русская культура за 3 минуты»; смонтировал видео «Архитектурное искусство московского метро» в «Обзор фотозон в московском метро»; и даже в ролике о российско-украинском конфликте намеренно добавил высказывания о «теории заговора между Китаем и США» – он знал, что это необъективно, но тогда показатели просмотров неуклонно падали, и он, словно тонущий, в панике хватался за любую соломинку.
Каждая уступка оставляла в его сердце глубокую рану. Днем, наблюдая за растущим числом просмотров, он испытывал мимолетную тайную радость; но ночью, лежа в постели в полной темноте, искаженные тексты и бессвязно смонтированные кадры снова и снова прокручивались в его сознании.
"Стоять на страже совести и терпеть страдания или поддаться желаниям и обрести избавление?" Этот вопрос как заноза застрял в его сердце – ни вытащить, ни проглотить. Последние два года он постоянно пытался поддаться желаниям, но где же избавление? Его нет. Вместо этого он будто увяз в трясине – чем больше барахтается, тем глубже погружается. В животе снова заныла тупая боль – виной тому съеденный масляный пирог. Он поднялся и направился на кухню, распахнул холодильник, доверху забитый едой: половина свиного рулька в соевом соусе, упаковка замороженных пельменей и вчерашняя утка по-пекински – кожица уже не хрустела, покрытая масляным блеском. Достал утку, оторвал кусок мяса и сунул в рот. Аромат утиного мяса распространился по языку, но чувство удовлетворения длилось лишь несколько секунд, после чего нахлынула ещё более глубокая пустота, подобно приливу, поднимающемуся от желудка к груди, сдавливая дыхание.
«Хватит», – тихо произнес он, но в голосе прозвучала несвойственная прежде решимость. Это не было импульсивным выкриком – скорее выводом, рожденным в бесчисленных ночах борьбы и самокопания: неуклюжим, но искренним. Вернувшись в гостиную, он взял планшет и открыл панель управления своего блога. Кнопка удаления аккаунта находилась в самом низу экрана – серая, словно надгробный камень. Пальцы замерли над ней на несколько секунд – вспомнились волнение при публикации первого видео, восторг от первого одобрительного отзыва, читатели, нашедшие отклик в его материалах. Но всё это уже стало прошлым.
Он нажал «Подтвердить удаление».
На экране всплыло уведомление «Аккаунт удалён» – резко контрастирующие белые буквы на чёрном фоне. В тот миг он внезапно почувствовал невероятное облегчение, будто сбросил камень, давивший на него годами. Городские улицы за окном словно утратили былую гнетущую атмосферу, а в сером небе проглянул слабый лучик света. Скученные небоскрёбы и сплетённые в сеть провода внезапно превратились в гигантский серый фон – ему захотелось бежать отсюда, из мира, пленённого данными и алгоритмами.
Чжан Цзюнь решил объехать всю страну. Ему нужно было сбежать, заменить духовный застой физическим движением. Из глубины шкафа он достал чёрный рюкзак, который использовал ещё во времена работы журналистом в Москве, – лямки уже порядком истёрлись. Он упаковал любимую фототехнику: зеркальную камеру, служившую ему пять лет, два объектива и блокнот – не электронный, а бумажный, в кожаной обложке, отполированной до блеска. На этот раз он чётко сказал себе: объектив будет фиксировать «чистую жизнь», а не служить для заработка; блокнот – для записи сокровенных мыслей, а не для создания вирусных текстов.
В ночь перед отъездом он разобрал все продукты в квартире. Пирожки с сахарной корочкой, тушёная свиная рулька, жареная утка и замороженные пельмени из холодильника – всё отправилось в мусорный пакет, который он выбросил в уличный контейнер. Глядя на раздутый пакет в мусорке, он вдруг осознал, что выбросил не просто еду, а те «наполнители», которыми пытался заглушить внутреннюю пустоту. Он принял душ, переоделся в чистую одежду, лёг в кровать и впервые за долгое время не страдал бессонницей. Лунный свет пробивался сквозь щель в занавеске, отбрасывая на пол длинную узкую полосу – словно дорогу, ведущую вдаль.
На следующее утро он выехал из Пекина на своем восьмилетнем внедорожнике. Пейзаж за окном постепенно менялся: высотки сменились низкими одноэтажными домами, асфальтированные дороги превратились в сельские тропинки, запах смога в воздухе исчез, уступив место аромату влажной земли и свежей травы. Он открыл окно, и ветер, ворвавшись внутрь, принес с собой прохладу, от которой он почувствовал необычайную ясность мысли. Конкретного маршрута у него не было – он лишь знал, что нужно ехать на юг. В книгах он читал, что на юге много древних городков с каменными мостовыми, маленькими мостиками и текущими ручьями, похожих на традиционные китайские рисунки тушью. Он надеялся найти там немного «чистоты», нечто, что могло бы успокоить его душу.
Первой остановкой в путешествии стал древний южный городок, название которого он уже не помнил – просто выбрал его случайно в навигаторе. Говорили, что ему уже несколько сотен лет. Но едва он достиг ворот городка, как с неба хлынул дождь. Не проливной, а мелкий, непрерывный дождик, словно бесконечные тонкие иглы, падающие с небес, окутывая весь мир серой, липкой атмосферой.
Он шёл по каменной плиточной дорожке, держа зонт. Дождь барабанил по куполу зонта, издавая шелестящий звук, словно полчища мелких насекомых ползли по нему. Под ногами мокрая каменная кладка блестела, заполненные водой выбоины отражали тусклый свет фонарей вдоль дороги – красные фонари, промокнув под дождём, потускнели, словно выцветшие старые шрамы. Он достал камеру, чтобы сфотографировать древний город в дождь, но едва навёл объектив вперёд, как капли дождя попали на линзу, образуя тонкую водяную плёнку, и снимки получались размытыми, будто сквозь матовое стекло.
Он протёр объектив, снова снял – результат тот же. Вся та «красота», которую он себе представлял – журчащий поток под мостиком, черепица на белых стенах, красные фонари у входа – всё в дождь утратило свой блеск. Вода в ручьях была мутной, на черепице виднелась плесень, красные фонари безвольно свисали, словно вялые больные. Он шёл по каменной дороге больше часа, но в камере осталось лишь несколько размытых снимков, и чувство поражения накатило на него, как приливная волна. Он осознал, что не может найти чистоту во влаге – так же, как не может найти удовлетворения в пустоте.
Когда стемнело, он нашёл в древнем городке гостевой дом. Это был традиционный дом с внутренним двором, где росло османтусовое дерево, чьи листья после дождя потемнели до черно-зелёного цвета. Комната располагалась на втором этаже. Открыв дверь, он почувствовал запах плесени, смешанный с ароматом мха в углах, от которого невольно кашлянул. Мебель в комнате была старой: деревянная кровать, шкаф с облупившейся краской, на столе стоял старомодный телевизор. Положив рюкзак на стул, он подошёл к окну, распахнул его. Дождь всё ещё шёл, капли с листьев османтуса падали на каменные плиты во дворе, издавая размеренное «тук-тук».
Этот звук идеально совпадал с ритмом его внутренней боли. Он вспомнил много лет назад зимой в Москве, была такая же ночь. Тогда он жил в маленькой квартире в центре Москвы, в квартире было центральное отопление, по вечерам становилось тепло. Он заваривал себе чашку горячего чая, садился у окна и смотрел, как за окном падает снег – большие хлопья, словно перья, мягко ложились на землю, быстро превращая весь город в белый. Звук падающего снега был очень тихим, «шуршащим», способным постепенно успокоить сердце. Тогда он только закончил репортаж о русском народном искусстве, хоть и устал, но на душе было полно. Он записывал в блокноте впечатления за день, и в каждом слове сквозила любовь к жизни.
Но сейчас того спокойствия давно не осталось.
«Ты не сбежишь от своей работы и показателей просмотров, Чжан Цзюнь. Ты просто сменил одну клетку на другую, более сырую». Внутренний голос вновь начал насмехаться над ним, словно тупой нож, медленно режущий сердце. Он почувствовал голод – не в желудке, а пустоту в душе. Достав телефон, он нашёл неподалёку ресторан с высокими оценками, заказал утку по-пекински, жареного гуся и тарелку супа. Еда быстро подали. Кожица утки была хрустящей, с соевым соусом, завёрнутая с огурцом и зелёным луком, при укусе во рту разливался маслянистый аромат; кожица гуся тёмно-красная, мясо нежное, с лёгким привкусом маринада при пережёвывании. Он ел жадно, большими кусками, словно пытаясь заполнить душевную пустоту.
Но, съев всего несколько кусков, он почувствовал пресыщение. Утиный жир прилип к уголкам губ, маринованный вкус гуся распространился на кончике языка, но чувство удовлетворения быстро исчезло, сменившись тошнотой – не физической, а психологической. Он положил палочки и, глядя на оставшуюся половину утки и большую часть тарелки с гусем, вдруг почувствовал, как это смешно: он думал, что, сменив место, сможет избавиться от своего прошлого «я», но в итоге по-прежнему пытался заполнить пустоту едой.
Он снова вспомнил тот вопрос: «Сохранить совесть и принять страдания или поддаться желаниям и обрести освобождение?» Сейчас он не сохранил совесть и не обрёл освобождения – он просто скитался в страданиях, как бездушная оболочка.
В ту ночь он не спал в гостевом доме. Дождь всё ещё шёл, звук «кап-кап» стучал по окну и отдавался в его сердце. Под утро он собрал рюкзак, выселился и уехал из древнего города на машине. Когда машина выезжала из города, дождь ещё не прекратился, в зеркале заднего вида древний город постепенно уменьшался, пока не превратился в размытое чёрное пятно, исчезнув в дождевой мгле.
Он больше не поехал на юг, а развернул машину и направился на северо-запад. Ему нужна была сухость, грандиозность, ему нужно было разбавить внутреннюю тесноту безграничностью природы. Он вспомнил, как в Москве смотрел документальный фильм о пустыне Гоби на северо-западе Китая: бескрайняя пустыня, горы под палящим солнцем цвета охры, будто обожжённые огнём – этот простор и пустынность произвели на него глубокое впечатление. Он подумал, что, возможно, в таком месте сможет обрести покой.
Путь с юга на северо-запад занял более тысячи километров. Он ехал двое суток, останавливаясь на отдых на заправках, когда уставал, и питаясь лапшой быстрого приготовления или хлебом, когда хотел есть. Пейзаж за окном постепенно менялся: зелёные рисовые поля превратились в жёлтые степи, низкие домики сменились редкими юртами, воздух становился всё суше, а ветер – сильнее. Когда он прибыл на северо-запад, был полдень; солнце висело в небе, словно огромный огненный шар, обжигая кожу.
Он припарковал машину у обочины, открыл дверь, и на него обрушилась волна горячего воздуха. Вдали горные хребты отливали глубоким красно-коричневым цветом, напоминая запекшуюся кровь на ране, и поблёскивали приглушённым светом под солнцем. В пустыне не было деревьев, лишь изредка попадались верблюжьи колючки, стелющиеся по земле, словно маленькие серые бугорки. Ветер был сильным, дул в лицо, неся с собой песок, что причиняло лёгкую боль. Стоя в степи, он раскинул руки, ощущая, как ветер дует со всех сторон – в тот момент он почувствовал себя крошечным, как песчинка в пустыне, ничтожным.
Это должно было стать искуплением. Перед лицом грандиозной природы личные страдания, желания и достижения должны казаться ничтожными. Но вместо облегчения он почувствовал ещё большее подавление. Его прошлые успехи – статус корреспондента CCTV, звание международно известного блогера, те репортажи и видео, которыми он когда-то гордился, – перед лицом этой пустыни превратились в ничтожную пыль. Он вспомнил, как ради просмотров не спал ночами, готовя тексты, как подстраивал свои взгляды под читателей, как из корыстных побуждений рекламировал продукты – всё то, что когда-то казалось ему важным, теперь выглядело просто смешным.
Это чувство полной бессмысленности приблизило его к иррациональным порывам отчаяния. Ему хотелось кричать, рыдать, швырнуть фотоаппарат на землю – но он не сделал ничего, просто стоял там, позволяя ветру и песку бить его по лицу.
Он припарковал машину у обочины, достал камеру и нацелил её на парящего в небе стервятника. Птица парила высоко, её расправленные крылья напоминали чёрные лоскуты, медленно кружившиеся в синеве. Он хотел запечатлеть её, сохранить эту мрачную красоту. Но когда он нажимал на спуск, его руки дрожали так сильно, что камера колебалась в руках, и на снимках получалось либо одно крыло стервятника, либо просто размытое небо.
Он опустил камеру и посмотрел на своё отражение в объективе – круглолицый, с двойным подбородком, во взгляде читались усталость и растерянность. «Посмотри на себя, – сказал он своему отражению хриплым голосом, – жадные складки, шипы зависти. Ты жаждешь славы, завидуешь тем молодым, кто известнее тебя. Теперь, стоя здесь, ты наконец признал, насколько глубоко укоренилось зло».
Ветер усилился, унося его слова в просторы пустыни. Он начал говорить с бескрайней пустошью, с парящим в небе стервятником и с самим собой. Он спрашивал себя: зачем он путешествует по стране? Действительно ли хочет найти «чистую жизнь» или просто ищет предлог, чтобы убежать от реальности? Хочет ли найти место, где можно снимать «чистые» фотографии, чтобы снова стать блогером и продолжить гонку за просмотрами?
«Нет, я не могу вернуться», – сказал он себе твёрдым, но с оттенком неуверенности тоном. Он понимал, что боится не самих просмотров, а чувства «нужности», которое они приносят – того оживления, когда каждый день открываешь панель управления и видишь бесчисленные комментарии, того ощущения достижений, когда твой контент влияет на других. Но он также осознавал, что эта «нужность» ложная, построенная на угождении и компромиссах, словно воздушный замок, готовый рухнуть в любой момент.
В те дни на северо-западе Китая он каждый день ездил по пустыне Гоби. Днём он смотрел на горы под палящим солнцем, на дальние песчаные дюны, на изредка проходящие караваны верблюдов; ночью он останавливал машину на придорожной станции, ложился в салоне и смотрел на звёзды за окном. Звёзды были очень яркими, гораздо ярче, чем в Пекине, густо усыпая небо, будто рассыпанные осколки алмазов. Но он всё равно не мог уснуть – беспокойные мысли в душе были словно песчинки в пустыне Гоби, их невозможно было очистить.
Он понял, что не обрёл покой, а столкнулся с более полным «собой». Всё, от чего он пытался убежать – жадность, зависть, тщеславие, трусость – предстало перед ним во всей неприкрытости на фоне этой величественной пустыни. Он словно стал хирургом, вскрывшим ткань собственного сознания и увидевшим тёмные реки подсознания. Грандиозность природы принесла не утешение, а бесконечное усиление личных страданий.
он должен был отправиться на окраину, в место, которое позволило бы ему удалиться от центра и одновременно найти отзвуки истории и культуры. В его памяти всплыли обрывки детских воспоминаний: борщ, который готовила бабушка, русские сказки, рассказываемые дедушкой, черно-белая фотография на стене дома – на снимке бабушка в традиционном русском платье и дедушка в военной форме стояли под березой, счастливо улыбаясь. Он вспомнил о своей идентичности – он потомок второго поколения смешанного китайско-русского происхождения. Бабушка была русской, в молодости приехала в Китай с дедушкой, который рано ушел из жизни, и она одна его вырастила. В детстве бабушка часто говорила с ним по-русски, учила русским народным песням, готовила ему хлеб и борщ. Тогда он не особо задумывался о своей принадлежности к смешанному китайско-русскому происхождению, ему просто нравился мелодичный русский язык бабушки и вкусный борщ.
Позже, когда он работал журналистом в Москве, русский язык стал его рабочим инструментом. Он ежедневно проводил интервью и писал репортажи на русском, но в те времена язык был для него лишь функциональным средством, лишённым той теплоты, с которой бабушка учила его в детстве. Он редко упоминал о своём смешанном китайско-русском происхождении, словно это было запретной тайной. Он боялся косых взглядов окружающих, опасался услышать упрёки в «нечистокровности» – не будучи ни стопроцентным китайцем, ни настоящим русским.
Теперь же он захотел вернуть эту утраченную идентичность. Ему хотелось найти место, где он смог бы ощутить культурную принадлежность. Открыв карту, он провёл пальцем по экрану и остановился на названии – Шивэй.
Шивэй, расположенный на правом берегу реки Аргунь, является одной из колыбелей монгольской цивилизации и единственной в Китае национальной волостью русской этнической группы. Из книг он узнал, что там проживает множество потомков смешанных китайско-русских браков – голубоглазые темноволосые люди, свободно говорящие на северовосточных диалектах китайского, но сохранившие русские бытовые традиции. Там можно найти русские срубные избы, попробовать борщ и чёрный хлеб – всё, что хранилось в его детских воспоминаниях.
Чжан Цзюнь ехал на север по протяжённой пограничной дороге (G331). Этот путь был долгим, пролегая вдоль реки Аргунь: с одной стороны – Китай, с другой – Россия. По мере повышения широты погода становилась прохладнее, а воздух – суше. Он открыл окно машины, и внутрь ворвался ветер с прохладной свежестью – не такой липкий, как южный ветер, и не такой обжигающий, как северо-западный.
Он проехал через степь. Трава в степи уже начинала желтеть, словно гигантский золотой ковёр, раскинувшийся между небом и землёй. Время от времени виднелись стада скота, неторопливо пасущиеся на равнине, а вдали белели юрты, будто грибы, рассыпанные по степи. Он остановил машину, вышел на траву – под ногами она была мягкой, и чувствовалась влажность почвы. Сделав глубокий вдох, он уловил аромат свежей травы и лёгкий запах навоза – это был запах, полный жизненной энергии, дававший ему ощущение спокойствия.
Дальше степь сменилась лесом. Сначала редкие тополя, затем сплошные березовые рощи. Березы стояли прямо, стволы белоснежные, словно тихие свечи, листья на ветвях уже начали желтеть. Когда дул ветер, листья шумели, словно пели. Солнечный свет пробивался сквозь щели между листьями, отбрасывая на землю причудливые световые узоры, которые танцевали в такт колышущейся листве.
Он вспомнил московскую зиму. Тогда березовые рощи Москвы были покрыты снегом, стволы белые, ветви усыпаны толстым снежным покровом, солнечный свет отражался от снега, создавая ослепительное сияние. Как-то в выходные он с коллегами поехал в березовую рощу под Москвой, шагал по снегу, слушая хруст под ногами, держа в руках горячий кофе, и сердце его было полно тепла. Сейчас, хоть и стояла ранняя осень без снега, эта березовая роща всё равно напомнила ему то состояние изоляции и очищения.
Добравшись до города Эргуна, он не задержался и продолжил движение по трассе G331 ещё около трёх часов. Придорожные берёзовые рощи становились всё гуще, воздух – всё холоднее. Он включил обогреватель, и в машине постепенно потеплело. Глядя в окно, он видел, как тени берёз быстро проносились мимо, словно текучие картины.
Наконец он увидел дорожный указатель «Посёлок Шивэй». Знак был синего цвета, а ниже – надпись на русском: «Шивигова». В его сердце вспыхнуло волнение, будто ребёнок, много лет не бывавший дома, наконец возвращался в знакомое место.
Он въехал в посёлок Шивэй. Машина катилась по асфальтированной дороге, ровной и гладкой. По обеим сторонам улицы стояли русские «избушки» – жилые дома, сложенные из брёвен, источавшие особый аромат сосновой древесины, смешанный с лесным духом, отчего он мгновенно расслабился. Брёвна были светло-коричневого цвета, с гладкой поверхностью, а щели между ними заполнены зелёным мхом, что обеспечивало и теплоизоляцию, и защиту от дождя. У входа в некоторые дома висели гирлянды сушёного красного перца и кукурузы, а на других развевались российские и китайские флаги, колышущиеся на ветру.
Он остановил машину, открыл дверь и вдохнул холодный воздух. В воздухе витал аромат сосновой древесины и лёгкий запах свежего хлеба – это был запах ржаного хлеба. Медленно идя по улице, он ступал очень тихо, словно боясь нарушить здешнее спокойствие.