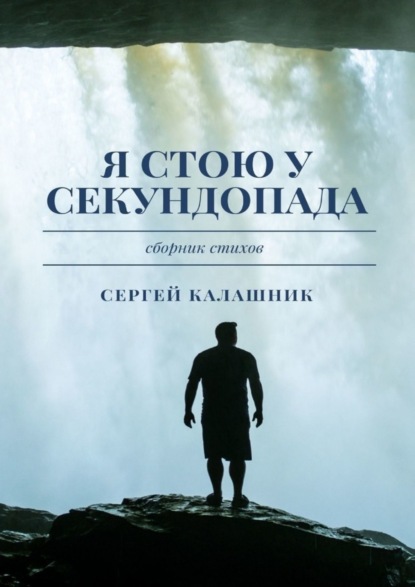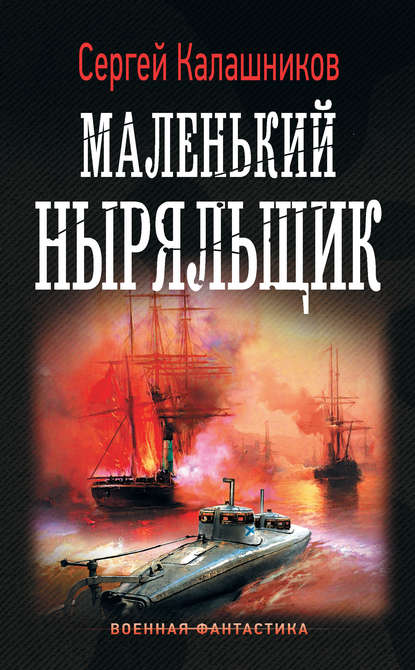Шивэй – между Китаем и Россией

- -
- 100%
- +
Чувство вины нахлынуло на него, словно прилив, затопив и вырезав на его душе, а теперь, под действием церковного холода, вновь разболелось.
Он смотрел на спину женщины, её движения при раскрашивании были легкими, уверенными, словно она берегла хрупкое сокровище. Он вспомнил те видео, что снимал, – словно кучка дешёвых пластиковых цветов, безжизненных, но заполонивших его жизнь. «Неужели я действительно могу исправиться?» – тихо спросил он себя, и голос отозвался эхом в церкви.
Женщина внезапно остановила кисть и обернулась. Их взгляды столкнулись – ни удивления, ни настороженности, лишь ясное, прямое любопытство, словно художник, разглядывающий незнакомое произведение и желающий узнать его историю.
«Ты тот новый фотограф?» – произнесла она, голос её был немного низким, с характерной для северо-восточного Китая густотой, но с лёгким дрожащим оттенком русского, подобно течению реки Аргунь, с чужеземной рябью. Эти тонкие нюансы культурного смешения повсюду встречались в Шивэе, но в её голосе они звучали особенно трогательно.
У Чжан Цзюня пересохло в горле, он сглотнул слюну, сделал два шага вперед и снова остановился – так и не осмелившись преодолеть эти десять шагов. В отличие от прежних времен, он не выпалил "Я известный международный блогер", не сказал "Раньше я был репортером на CCTV". Вместо этого он выбрал свою новую идентичность в Шивэе, ту, к которой постепенно привыкал и которая ему начинала нравиться: "Да. Чжан Цзюнь. Я просто молчаливый фотограф."
Он намеренно подчеркнул слово "молчаливый", словно проводя четкую границу с прежним собой – тем болтуном, который ради трафика готов был нести любую чепуху.
Женщина улыбнулась, уголки ее губ изогнулись в легкой дуге, но в глубине глаз таилась едва заметная усталость – будто от долгого всматривания в фрески устали глаза, или от долгих поисков устала душа. "Настя", – назвала она себя, указывая на стенную роспись. "Я здесь, чтобы восстановить их. Вернуть цвета, которые почти исчезли."
Ее пальцы коснулись края одежды святого на фреске, где синий цвет уже поблек до сероватого оттенка, а в трещинах скопилась пыль. "В этих цветах скрыты истории прошлого – истории потомков китайско-русских метисов, и моя собственная история. Я хочу восстановить их, чтобы посмотреть, смогу ли найти свое место."
Сердце Чжан Цзюня резко забилось. «Найти своё место» – именно эта фраза стала причиной его приезда в Шивэй. Он посмотрел в глаза Насти – в них была та же растерянность, что и у него, и то же стремление. Внезапно он почувствовал, что эти десять шагов между ними уже не кажутся такими непреодолимыми.
Он глубоко вздохнул, и холод церковного воздуха проник в лёгкие, но это придало ему ясность. Он вспомнил вечное спокойствие над рекой Аргунь, тёплый камин в деревянной избушке, лошадь Василия и хлеб Ван Гуана. Он понял, что его жизнь отшельника – не конец, а только начало; что испытание его души – не бремя, которое нужно нести в одиночку, а путь, на котором, возможно, появится попутчик.
«А эти цвета… сложно восстановить?» – спросил он, и голос его прозвучал чуть увереннее, чем прежде.
Настя кивнула и снова взяла кисть, обращаясь к фреске: «Очень сложно. Сначала нужно проанализировать состав первоначальных красок, потом подобрать точно такие же цвета и наносить их постепенно, без спешки. Так же, как искать свои корни – нельзя торопиться, нужно медленно ждать и внимательно смотреть».
Чжан Цзюнь смотрел, как она склонилась над работой, солнечный свет падал на её кисть, и кончик кисти с краской переливался легким блеском. Он достал камеру, но направил её не на неё, а на участок фрески, где уголок одежды только что был подкрашен синим. Он нажал на затвор, раздался легкий щелчок, который, словно семя, упал в его сердце.
Он остался в Шивэе. Не из-за бегства, а потому что здесь были корни, которые он искал, душа, которую ему нужно было исцелить, и человек, который, как и он, искал цвета и свою идентичность. Воды реки Аргунь всё ещё текли, ветер в берёзовых рощах всё ещё дул, и в его камере постепенно наполнятся рассветы и закаты Шивэя, настоящая жизнь, все следы души, переходящей от растерянности к ясности.
Церковный холод всё ещё окутывал тяжёлый запах сосны и мха, голос Чжан Цзюня звучал перед потрескавшейся фреской с выдержанной годами глубиной – это была проницательность, выращенная за десять лет работы журналистом в Москве, и усталость, выстраданная в двухлетнем вихре трафика. Он смотрел на выцветший ультрамарин под кончиками пальцев Насти, словно вглядываясь в неясный уголок собственного сердца: «Ты восстанавливаешь цвета или веру?»
Пальцы Насти замерли на мгновение, она не ответила сразу. Под её ногтями застыли пятна краски разных оттенков – тёмно-синей, охры, золотой пыли, словно вся история фресок спряталась в её пальцах. Она мягко провела рукой по стене, кончики пальцев скользнули по мелким трещинам, будто прикасаясь к спящим историям. «Как ты думаешь, что такое вера?» – повернулась она, её светло-карие глаза светились в полумраке, словно звёзды на поверхности Аргуни.
Настя опустила тонкую кисть, на ручке которой оставалась ещё не высохшая ультрамариновая краска. Она прислонилась к стене бревенчатой избы, спиной к прохладным брёвнам, и вздохнула. «Я восстанавливаю цвета истории», – её взгляд снова упал на фреску, на ангела с наполовину стёршимся лицом. «Видишь, эти краски скрывают не просто цвета, а истории. Когда бежали русские аристократы, они привезли сюда иконописцев православной веры. Те смешивали краски с водой из Аргуни, растирали в порошок лазурит с окрестных гор, чтобы написать этих ангелов и святых».
Она указала на глаза ангела, где краска уже поблекла до бледно-серого, оставив лишь слабый голубоватый отсвет. «Этот ангел несовершенен. Посмотри на его надбровные дуги – они нахмурены; уголки губ опущены – он несёт в себе боль. Раньше, глядя на фрески в Зимнем дворце Петербурга, я видела улыбающихся ангелов, сияющих золотом, но здесь всё иначе. Позже я поняла – боль является краеугольным камнем веры».
Чжан Цзюнь сделал два шага вперёд, приблизившись к фреске. Его взгляд упал на глаза ангела, где размытый голубой отсвет стал зеркалом, отразившим его самого. В Пекине он тоже испытывал «боль», но это была боль от работы – тревога, борьба, терзания. Такая боль, словно прилив, поглощала его, но он никогда не думал «пережить её», а лишь хотел «сбежать».
"Боль?" – тихо повторил он, с ноткой самоиронии в голосе. – "Разве то, что я пережил в городе, можно назвать болью? Это паника, когда просыпаешься утром, открываешь телефон и видишь, что количество просмотров упало на две тысячи; тошнота от постоянного метания между 'правдой' и 'ложью' при написании текстов; чувство вины, когда вечером лежишь в постели, вспоминая, что снова солгал сегодня, и ворочаешься без сна. Каждое утро в моей душе происходит испытание: стать ли снова тем журналистом, который с камерой в руках гонялся за правдой, или продолжать подчиняться цифрам, оставаясь рабом данных, развлекающим толпу?"
"Поэтому ты сбежал в Шивэй." – тон Насти был спокоен, без упрёков и сочувствия, но он, словно точный хирургический скальпель, вскрыл его защиту. Её взгляд упал на его округлое лицо, на слегка опущенные уголки губ от многолетнего переедания, будто она могла разглядеть борьбу, скрытую под слоем жира.
Лицо Чжан Цзюня слегка покраснело – не от стыда, а от неловкости быть понятым. «Я не сбежал, – оправдывался он, но голос звучал тише прежнего. – Я пришел искать возможность искупления. Знаешь, когда вера осыпается, это приводит к моральному краху? Когда человек обнаруживает, что ложью и разжиганием эмоций можно легко обрести богатство и славу, до каких крайностей может дойти борьба добра и зла в его душе?»
Он вспомнил, как в самый пик своей известности к нему обратился бренд с предложением прорекламировать «способную предотвратить COVID-19» биодобавку. Он проверил информацию и знал, что это ложная реклама, но предложенная сумма равнялась его трехмесячному доходу. Три дня он колебался, но в итоге снял видео, где сказал в камеру: «Все мои друзья принимают это, эффект отличный». После публикации ролика он получил множество личных сообщений: одни спрашивали, где купить, другие писали: «Спасибо, товарищ Чжан Цзюнь, за рекомендацию». Читая эти сообщения, он чувствовал, будто ему в грудь залили свинец – так тяжело, что нечем было дышать. Позже выяснилось, что добавка была подделкой. Он удалил видео, но так и не осмелился снова посмотреть те сообщения.
Настья не ответила, лишь молча смотрела на него. Её взгляд был мягким, с оттенком сострадания – не жалости, а понимания, словно говоря: эти внутренние терзания, которые ты переживаешь, не только твои, это дилемма всего нашего поколения. В Санкт-Петербурге с ней тоже случалось подобное: галерея просила изменить картину, превратив «страдания беглых аристократов» в «романтику экзотики», утверждая, что так она продастся дороже. Она отказалась и потеряла ту работу.
А ты? – внезапно переспросил Чжан Цзюнь, переводя тему с себя. – Почему ты уехала из Санкт-Петербурга в этот приграничный городок, чтобы восстанавливать почти забытую церковь? Чтобы сохранить следы истории? Или чтобы найти свою идентичность как евразийки?
Настья замолчала. Она опустила голову, пальцы медленно скользили по коробке с красками, будто упорядочивая хаотичные мысли. Движение было лёгким, но намеренно замедленным – словно скрывая те искренние чувства, которые не хотелось легко выдавать. В церкви стояла тишина, лишь изредка доносился шум ветра за окном и отдалённое течение реки Аргунь.
Спустя некоторое время она подняла взгляд и остановила его в углу фрески, где почти полностью выцветшая синяя краска оставила лишь слабый след. «Цвета лгут, Чжан Цзюнь», – её голос прозвучал тихо, словно перо, упавшее на снег. «История тоже. Мой дед был потомком царских дворян, он рассказывал мне, что их отъезд из России был "славным изгнанием" – ради сохранения православной веры, ради отказа от компромисса с большевистской революцией. Я выросла на этих историях, в нашем семейном альбоме хранились фотографии деда в военной форме, бабушки в жемчужном ожерелье – в их глазах читалась гордость».
Она сделала паузу. «В прошлом году, перед смертью, моя бабушка передала мне письмо, в котором раскрывалась вся правда. Моя прабабушка приехала в Китай вместе с дедом – они уехали не в "славном изгнании", а бежали от страха перед большевиками, добираясь до Шивэя попрошайничеством. Позже я приехала сюда, чтобы найти следы их прежней жизни».
Голос Насти слегка дрожал, она взяла тонкую кисть, обмакнула в краску, приготовленную из порошка лазурита, но не стала наносить её на фреску, оставив кончик кисти замершим в воздухе. «Я пришла сюда не ради погони за историей и не ради поиска идентичности. Я хочу найти среди этих фресок подлинную точку отсчёта. Как краски на этой фреске – есть осыпавшиеся, есть сохранившиеся, есть позднейшие дополнения. Восстанавливая их, я не воссоздаю историю, а ищу место, куда можно поместить свою душу – кто я на самом деле? Потомок петербургских аристократов или рождённая в пограничном городке Шивэй метиска?»
Она указала на выцветший синий участок фрески: «Посмотри на этот синий – это не обычная краска, её сделали из порошка лазурита с гор возле Шивэя, замешали на воде из реки Аргунь. Только материалы с этой земли могут по-настоящему оживить эту роспись, слиться со стеной воедино. Моя идентичность, как эта фреска, требует закрепления шивэйской землёй, речной водой, сосновой древесиной – мне нужно знать, что у меня есть своя родина, своя семья, своя история».
Чжан Цзюнь смотрел на неё и вдруг понял. Они на самом деле были похожи. Он брал фотоаппарат и снимал в утреннем туме Шивэя птичьи трели, оленей, дымок над деревянными избушками не для того, чтобы быть блогером, а чтобы найти в объективе себя – того репортёра, который когда-то бегал за правдой; она брала кисть и в полумраке церкви наносила краски, реставрировала фрески не для того, чтобы быть реставратором, а чтобы найти в цветах себя – ту Настю, которую не держит в плену ложная история.
Их инструменты были разными – у одного фотоаппарат, у другой кисть; их методы разными – один фиксировал, другая восстанавливала; но их цель была одинаковой – в грандиозном отчаянии обрести смысл индивидуального существования. Отчаяние алгоритмов, отчаяние истории, отчаяние идентичности – всё это отчаяние, словно сеть, опутывало их, но они оба боролись, оба искали выход, чтобы вырваться из этой сети.
«Уже поздно, пойдём ко мне», – Настя убрала коробку с красками, положила кисти в пенал. – «Недалеко отсюда, тоже деревянная избушка, с камином, будет потеплее».
Чжан Цзюнь кивнул и последовал за ней из церкви. Снаружи уже стемнело, в Шивэе не было уличных фонарей, лишь тёплый жёлтый свет из окон домов, словно звёзды, рассыпанные в ночи. Ветер стал холоднее, чем днём, обжигал лицо с легкой прохладой снежинок – в Шивэе приближалась зима.
Избушка Насти стояла в переулке рядом с церковью, у входа висела маленькая русская керосиновая лампа, свеча внутри которой тихо колыхалась на ветру, отбрасывая тёплый свет на снег у порога. Настя отворила деревянную дверь, и сразу хлынул аромат сухой сосны, смешанный с запахом дыма от горящих в камине поленьев, мгновенно отсекая наружный холод.
«Заходи, я только что разожгла огонь». Настя сняла пальто и повесила его на деревянный крюк у двери, на одежде остались снежинки, быстро растаявшие.
Чжан Цзюнь вошел в дом, снял шапку, обнажив слегка влажные от пота волосы. В доме было тепло, сосновые дрова в камине ярко пылали, языки пламени подпрыгивали с потрескивающим звуком, отбрасывая оранжево-красный свет на стену, где висело несколько набросков, нарисованных Настей: утренний туман над рекой Аргунь, иней в березовой роще и руины этой церкви.
"Мне нравится сухость здесь." Чжан Цзюнь смотрел на огонь в камине, и внутреннее напряжение постепенно ослабевало. "Здесь нет промышленных запахов города – воздух Пекина полон выхлопных газов, духов и ароматов доставки еды, всё смешивается и душит; воздух в южных древних городках влажный, запах плесени проникает в кости. Только здесь воздух чистый – пахнет сосной, снегом и речной водой."
Настя улыбнулась, повернулась и прошла на кухню. Кухня была маленькой, тоже сделанной из бревен, на плите стоял чугунный котелок, в котором варился борщ. Аромат исходил из котелка – сладковатый от свеклы и мясной от говядины. "Подожди немного, ужин скоро будет готов."
Чжан Цзюнь сидел на деревянном стуле у камина, глядя на пламя. Тени от огня колебались на стене, словно танцующие духи. Он вспомнил свою арендованную избушку, где огонь в камине был таким же. По вечерам он сидел у камина, разбирая фотографии, сделанные за день, и делая заметки. Иногда он просто сидел, глядя на огонь, слушая треск горящей сосны, и в душе воцарялась тишина – такая тишина, какой никогда не было в Пекине.
Вскоре Настя вынесла ужин. На столе появилась тарелка с толсто нарезанным черным хлебом, с золотистой корочкой, от которой еще шел легкий пар; маленькая мисочка с черничным вареньем густого фиолетового цвета, где виднелись целые ягоды; и миска борща темно-красного цвета, на поверхности которого плавала сметана, словно снег на красной земле.
«А водки с солеными огурцами нет?» – с улыбкой спросил Чжан Цзюнь, вспомнив Василия. Когда он впервые встретил Василия у реки, тот сразу протянул ему соленый огурец со словами: «Водку нужно закусывать именно этим». Несколько дней назад они вместе пили водку на берегу реки. Васильева водка была собственного изготовления, очень крепкая, обжигающая глотку, но в сочетании с солеными огурцами становилась невероятно освежающей.
Настя тоже улыбнулась и пододвинула к нему хлеб: «Завтра, а сегодня давай поедим самую простую еду».
Чжан Цзюнь взял кусок хлеба и откусил. Корочка была хрустящей, с громким хрустом, а внутри хлеб оказался мягким, с насыщенным ароматом пшеницы и несколькими мелкими овсяными зёрнами, которые придавали приятную жевательность. Он обмакнул хлеб в черничное варенье – кисло-сладкий вкус ягод смешался с пшеничным ароматом, создавая чистый, натуральный вкус – без приторной сладости добавок, без терпкости консервантов, просто настоящий вкус еды.
«Вот это и есть чистая жизнь», – проговорил он, пережёвывая. Это сенсорное воспоминание внезапно слилось с детскими воспоминаниями – бабушка Чжан Цзюня тоже часто пекла такой хлеб. По утрам она нарезала его ломтиками, намазывала маслом или обмакивала в домашнее варенье, а он сидел у окна с хлебом в руках и смотрел на снег за окном. Тогда жизнь была простой – без данных, без трафика, только улыбка бабушки и аромат свежего хлеба.
Настя тоже взяла кусок хлеба и медленно ела. «Когда я только приехала в Шивэй, каждый день проводила в церкви, глядя на выцветшие краски, и чувствовала себя всё более оторванной от внешнего мира», – её голос был тихим, словно она разговаривала сама с собой. «Иногда я целый день не произносила ни слова, просто сидела и смотрела, как солнечный свет проникает через окно, падает на фрески, и цвета постепенно оживают в его лучах».
«Раньше, когда я училась в университете в Санкт-Петербурге, там каждый день было шумно. Выставки в галереях, встречи с друзьями, интервью – все называли меня "молодым гением живописи", но я совсем не была счастлива. Мне казалось, что эти картины не мои, и похвалы адресованы не мне». Она сделала глоток борща, суп был горячим, и она осторожно подула на него. «А потом я приехала сюда: нет выставок, нет интервью, нет похвал, зато я чувствую себя спокойно. Каждый день реставрирую немного фресок, вечером возвращаюсь домой, пеку хлеб, ем борщ – и на душе становится тихо», – сказала Настя.
Чжан Цзюнь кивнул, он понимал это чувство. В Пекине он каждый день был «очень занят»: спешил с текстами, снимал видео, проводил прямые эфиры, встречался с партнёрами – телефон звенел без остановки, сообщения в WeChat шли одно за другим, но ему всегда казалось, будто он волчок, которого раскручивают другие, и остановиться невозможно. Приехав в Шивэй, он каждый день делал всего несколько дел: утром шёл к реке слушать птичьи трели, в первой половине дня ходил с Василием по лесу, после обеда разбирал фотографии, вечером сидел у камина и делал записи – очень свободно, но он чувствовал себя очень наполненным.
«Теперь я могу точно распознавать крики двадцати видов птиц», – сказал Чжан Цзюнь с ноткой гордости в голосе. – Пение пеночки – «цзи-цзи-цзю-цзю», очень тонкое; у соловья-красношейки в трели есть раскатистое «гурлыканье»; а звук, когда дятел стучит по стволу, – «тук-тук-тук», очень ритмичный.
Настя опустила ложку и посмотрела на него с легким пониманием в глазах. «Когда твои чувства очищаются, ты начинаешь слышать шум в глубине своей души», – прошептала она. «В Санкт-Петербурге меня каждый день окружали разные звуки: гудки машин, музыка из галерей, разговоры друзей – я не слышала голос собственного сердца. А здесь, где нет этого шума, я наконец могу услышать, о чем думаю, и понять, чего хочу на самом деле».
Она указала на сосновое полено в камине, которое горело, издавая потрескивающие звуки, изредка выскакивали искры, падая на каменное основание очага и быстро угасая. «Посмотри на это дерево: когда оно горит, издает звуки, излучает свет, выделяет тепло – это его подлинная сущность. Мы такие же: только сбросив все внешнее, ярлыки вроде «блогер», «реставратор», «потомок аристократии», мы сможем увидеть свое истинное лицо.»
Чжан Цзюнь смотрел на горящее полено, и его сердце внезапно прояснилось. Он вспомнил день, когда удалил свой аккаунт: глядя на уведомление «Аккаунт удален», он чувствовал пустоту, но также и облегчение. Наконец-то ему не нужно было жить ради ярлыка «международно известный блогер», не нужно было идти на компромиссы ради трафика. Он был просто Чжан Цзюнем – человеком, который любит фотографировать, слушать пение птиц и есть хлеб.
«Ты права,» – сказал он, глядя на Настю с невиданным прежде спокойствием в глазах. «Мы все ищем свое истинное «я», просто разными способами. Ты – кистью, я – камерой; ты в цветах, я – в объективе.»
Настя улыбнулась, на этот раз легко и искренне, без прежней усталости. «Возможно, мы можем вместе искать свое настоящее «я».»
Каминное пламя всё ещё пылало, оранжевый свет озарял их лица, создавая уют. За окном продолжал дуть ветер, но в комнате стояла тишина, прерываемая лишь потрескиванием горящей сосны и ароматом красного борща. Чжан Цзюнь взял кусок хлеба, обмакнул его в черничный джем и медленно ел. Он понимал, что эта ночь была для него обычным вечером в Шивэе, но одновременно – началом искупления его души. А появление Насти подобно лучу света, озарившему его прежде запутанный путь – возможно, вместе, в мире красок и объективов, они смогут найти своё подлинное «я» и смысл существования.
За окном доносился легкий, но уверенный шум течения реки Аргунь, словно аккомпанируя их договоренностям. Зима в Шивэ приближалась, снег покроет землю, покроет березовые рощи, покроет руины церкви, но огонь в камине будет продолжать гореть, аромат хлеба будет разноситься, и их разговоры будут продолжаться – о вере, о морали, о смысле существования, о том подлинном себе.
Ночь была густой, как дно реки Аргунь, непроглядной и вязкой. За окном порывы холодного ветра внезапно изменили свой нрав: уже не лёгкие вечерние дуновения с ледяной крупицей, а яростные удары, с рёвом бьющиеся о брёвна стен деревянной избушки. Они выли «у-у-у», словно стоны оленьего стада вдали, или будто истории, погребённые историей на дне реки, отчаянно пытались высунуться в ночной темноте.
Но огонь в избушке горел ровно. Сосновые поленья в камине пылали вовсю, красно-оранжевые языки пламени лизали древесину, и там, где текстура была грубее, раздавался треск «пи-па», высекая несколько искр. Они падали на холодный камень и тут же гасли, оставляя лишь маленькие обугленные следы. Чжан Цзюнь сидел в деревянном кресле у камина, держа в руках чашку с тёплым борщом. Тепло от фарфора проникало сквозь стенки в ладони, согревая до лёгкого онемения в кончиках пальцев.
Он посмотрел на Настю. Она сидела в кресле напротив, перебирая в руках крашенку с праздника Баск – яйцо было бледно-зелёного цвета, с золотым орнаментом из переплетающихся ветвей, но узор уже сильно стёрся, обнажая белёсую скорлупу, словно старую вещь, изъеденную временем. Её профиль в свете огня был полуосвещён-полутеневой, высокий нос отбрасывал лёгкую тень на рукав рабочей куртки, испачканный краской, что делало её одновременно хрупкой и стойкой.
"Нам уже нечего скрывать." – внезапно проговорил Чжан Цзюнь, его голос был тихим и на фоне потрескивания камина казался особенно глухим, словно камень, выкатившийся из глубины горла. – "Эта избушка слишком мала, а ветер слишком шумит, чтобы утаить переживания."
Настя подняла голову, её светло-карие глаза блеснули в огне. Она отложила крашенку и кивнула: "Да, не утаить."
Чжан Цзюнь глубоко вздохнул и поставил свою тарелку со свекольным супом на стол. Суп ещё дымился, пар застывал в холодном воздухе белой струйкой, быстро рассеиваясь. Казалось, он принял какое-то решение, бессознательно проводя пальцами по подлокотнику деревянного кресла – тот от многолетних прикосновений отполировался до гладкости и сохранял тепло человеческих рук.
"Я уволился не потому, что устал от работы, а потому, что устал от самого себя." – сказал он, произнося каждое слово с особой твёрдостью. – "Уйдя с телеканала и вернувшись из Москвы, я думал, что смогу делать репортажи по своему желанию, сохранить прежнюю жизнь. Но я ошибся – я стал тем, кого больше всего презираю."
Его мысли вернулись в Москву. Более двадцати лет назад, когда он только приехал туда журналистом, впервые отправился брать интервью у старого московского мастера. Тот в маленькой мастерской на окраине Москвы всю жизнь делал матрёшек – не раскрашивал их ярко, а лишь слегка тонировал акварелью, изображая старые московские улочки и дома. Чжан Цзюнь провёл в мастерской неделю, каждый день вставая вместе со стариком, заваривая чай, обтачивая дерево. Старый мастер говорил ему: «Душа матрёшки скрыта в дереве, нужно прислушиваться к нему – каким оно хочет стать, таким и вырезай, не насилуй».
После публикации того репортажа он получил письмо из Харбина от пожилого человека. Старик написал, что в молодости жил в Москве и, прочитав репортаж Чжан Цзюня, вспомнил дни, когда ел хлеб на московских улицах: «Спасибо, что снова вернули меня в Москву». В те времена Чжан Цзюнь чувствовал весомость своего пера и теплоту камеры – он фиксировал не просто новости, а человеческие истории, то, что согревало сердца.
«Десять с лишним лет в Москве были для меня самыми чистыми днями», – голос Чжан Цзюня смягчился, окрасившись ностальгией. «Я твёрдо верил в значимость глубоких репортажей, верил, что камера способна сохранить правду. Тогда я объездил большие и малые города России: от Зимнего дворца в Санкт-Петербурге до острова Ольхон на Байкале, от северного сияния в Мурманске до Чёрного моря в Сочи. Я видел стариков, охраняющих маяки в сорокаградусные морозы, детей, не желавших покидать библиотеки с книгами на руках во время войны, ненцев, кочующих с оленьими стадами по степям».