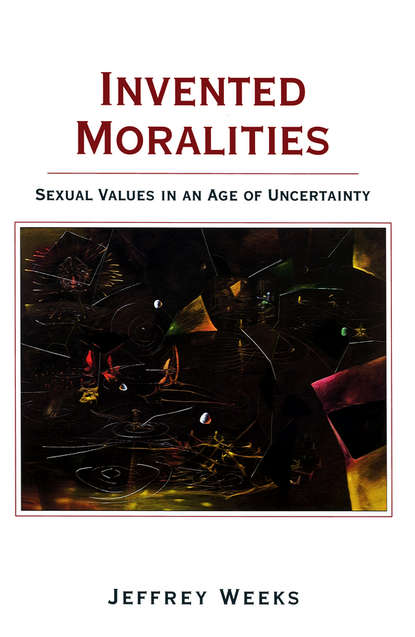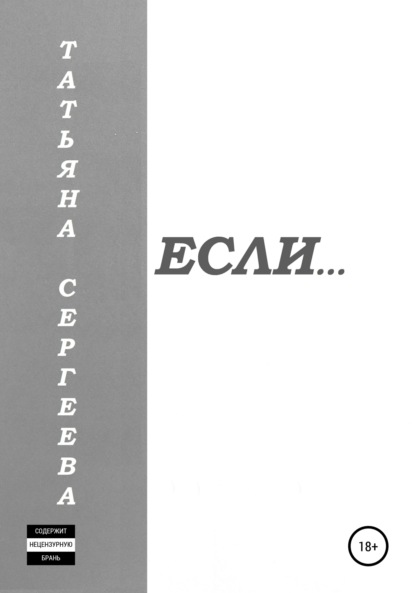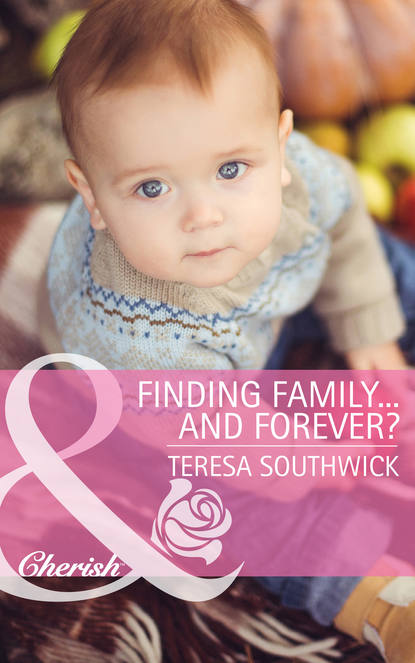Царская чаша. Книга 3
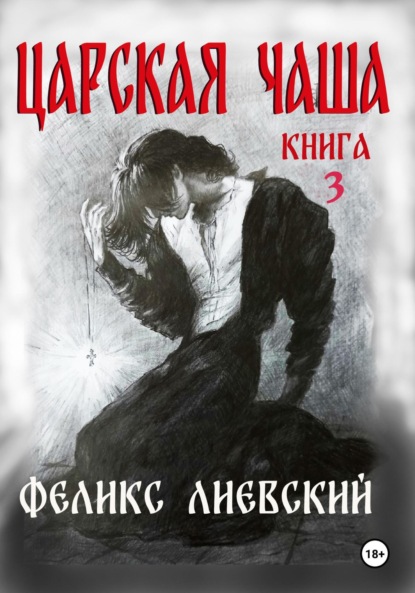
- -
- 100%
- +
Если бы у них была охота глядеть по сторонам, они бы видели близ деревень, мимо которых шла ямская дорога, благочестивых хлебопашцев, воздыхающих молитвы Тимофею и Мавре мученикам и Феодосию с Петром, прежде чем бросить в поле три горсть семян, и кладущих после три полона – на восток, юг и запад, и идущих далее, бороздой к борозде, по всему засеву… Но им было не до повседневных забот народа, и дело, сорвавшее их с мирного при государе пребывания, не терпело ни часа промедления. Но касалось оно прямо дальнейшего для всех повседневного, так как было оно о войне.
– «Живи-веселись, да каково-то будет в мае»! – нарушил общее молчание бодрым окриком владелец гнедого зловредного охотника за зайцами и убийцы коз, вёрст через тридцать, и похлопал его по влажной тугой шее, услышавши в ответ глухое тихое порыкивание. Впрочем, больше дружелюбное, чем сердитое. – Вот уж правда! Ну и студёное утро было… Передохнём? Фёдор Алексеич!
Скакавший впереди на своём вороном Атре Федька кинул взгляд через плечо, тоже чуть придержав бег: – Рано! Ещё бы надо… Столько же, а там передохнём.
– Да боюсь заморить! Вон хуторок, давай там водицы добудем.
– Зря боишься, Григорий Матвеич! – Федька ещё придержал недовольно заворчавшего Атру, чтобы идти с Чёботовым рядом. Позади них, шагах в десяти, также о стремя рысили Вокшерин и князь Мишка, как называл за глаза Федька Михаила Трубецкого, ныне стольника царевича Ивана, того самого, к которому так неистово приревновал он некогда государя… Княжич держался не то чтоб запросто, но и носа особо перед ними не драл. Хоть и было заметно, что ему не вполне свойски в их кружке. Все четверо одеты были в чёрные опричные кафтаны, простые с виду, но из-под которых при распахивании пол виднелись цветные шелка. Сапожки сафьяновые и шапки бархатные с собольими околышами, добротные нарядные ножны и конский убор, а также видневшиеся под плащами притороченные к поясам саадаки также выдали бы пристальному взору приверженность гонцов этих к непростому служилому сословию. За Федькой в поводу бежал легко вожделенный серебряный Садал Сууд, которого он, как новый хозяин, объезжал во всё время богомолья, пользуясь свободными часами. Остальным же выданы были арабские скакуны из царской конюшни, самые покладистые и добронравные: два роскошных золотистых хабдана и крапчатый, маленький хокейлан. Федька поймал себя на вожделении к его широкой груди, росту, частым пятнышкам и невероятно плавному ходу, и зависти к князю Мишке, вполне могущему себе такого позволить насовсем. Стыдя себя за непомерную алчность, он потрепал с силой своего несравненного сиглави16 по бархатистой горячей шее, и почесал между ушей. Атра вскинул голову и коротко всхрапнул.
Какое-то время рысили молча, и до того арабы ладно ровно шли, точно лодочки, что начинало убаюкивать… Через малое время Чёботов опять запереживал, а остальные смотрели то на него, то на Федьку, невозмутимо скачущего впереди, то на постепенно приближающиеся крыши какого-то селения. Врассыпную за его околицей тускло светлели в распаханных полосах рубахи сеятелей. День понемногу разгорался лучезарным зелено-дымчатым маревом, пыльной душистой розовостью небесных окаёмов, и пахло издали медовым дождём. Дорога их вилась себе теперь в сторону от большого пути через Ярославль, что на Москву, забирала западнее, и они рассчитывали оказаться в Рыбинской слободе до заката… Это если не слезать с седла ещё часов десять, за малыми вычетами на естественные нужды и поение-кормёжку коней. Так было рассчитано знающими дорогу людьми, однако, даже будучи сам в состоянии, если постараться, высидеть столько единым махом в день, Чёботов никак не мог вообразить подобной прыти в своей лошади, да и ни в какой другой. До сих пор ему не доводилось такое проверить… А они всё рысили дальше… И вот уж последняя избёнка какого-то сельца осталась смотреть им вослед, вместе со своими обитателями, когда он осторожно натянул поводья, у ступая дорогу Вокрешину.
– Ты как хочешь, Фёдор Алексеич, а я коня напою!
Маленький отряд смешался, постепенно замедляясь и скучивась… Кони всхрапывали, фыркали, выдыхали шумно, взмахивали хвостами, сразу успокаиваясь, и желая опустить головы в поисках свежей травы, которой тянуло отовсюду.
– Экий ты, Григорий Матвеич, недоверчивый, – насмешливо отозвался Федька, со вздохом спускаясь с коня, поглаживая его нервную морду и быстро целуя в жилку под атласной чёрной кожей переносицы. – Ну как желаешь, только быстро.
Трубецкой и Вокшерин также спешились, и последний выразил желание идти с Чёботовым к колодцу за водой. Придорожные овражки, на вид чистые, всё же доверия не вызывали… Пока они ходили, Федька добыл из припасов торбу овса, и попросил Трубецкого раздать всем по горсти, а он подержит, кого сможет. Не следовало отпускать Вокшерина, не дай бог сейчас что коней пуганёт – вдвоём их не удержать будет… За Атру он ручался, но вот остальные его бы вряд ли послушались. А посланцы ещё и подзадержались – чтоб не застудить, коням давать следовало бы водицу чуть подогретою, не прям из колодезной стужи… Пришлось просить за пару медяков крестьянина поставить в печь самую большую корчагу и разбавить чуток горячим два ведра набранного питья… Чёботов приволок ещё два меха, полные водой, про запас. Федька глянул – и только головой покачал. Напрасный груз заводным17, но не выливать же драгоценное, раз уж набрано.
Кони пили лениво, можно сказать, и не пили вовсе, а гнедой Чёботова нюхнул, да и ковырнул о себя полное ведро копытом. Опрокинутое, оно обильно оросило успевшую подсохнуть дорожную пыльцу… И сладко так запахло дождём опять.
– Я же говорил. Это ж не простые твари. Волшебные! – Федька вздохнул, и отпил сам, зачерпнув горстью, из оставшегося ведра. И в лицо плеснул тоже. Трубецкой усмехнулся. Сказать честно, ему вовсе не желалось в такую даль переться невесть с кем, пусть бы и с царским кравчим, если не он верховодил. Но выбрали его не столько за знатность, хоть и это тоже, сколько за умение и ловкость к такой долгой езде, сноровку в обращении с аргамаками, а главное – лёгкий он ещё, и коня собою затрудняет малость самую. Не то что тот же Чёботов, тому менять седло почаще придётся… Да и недоспать по молодости лет легче всегда. А мчать им предстояло как можно скорее. Ну и главное – вчетвером сподручнее. Если за царевичем княжич исправно приглядывает, то и за драгоценными аргамаками сможет не хуже, наверное, так говорил Федька Иоанну накануне, выпрашивая четвёртого себе.
Чёботов подобрал ведро, пристроил обратно к седлу своего заводного.
– Ээх, что за скотину ты мне подсуропил, Фёдор Алексеич! – он был уже в седле, как и остальные, и выстраивались снова за вороным, постепенно восстанавливая рысь.
– Как звать-то гадину? Не припомню.
– Звали Барсом. А теперь Злыдень будет!
– Ну ежели пить он не хочет…
– Зачем пинать-то?.. Ну не хочешь – не надо…
– Норов горячий!
– Вот и я о том же!
Так переговариваясь какое-то время ещё, шли друг за другом, и вскоре удаляться стали совсем от Ярославского края, и Федька вздохнул, кинув взор напоследок. Там, там, верстах всего в двустах каких-то, смотрела на разгоревшееся маревом сладостным мая небо его жена… Варвара. Он так её называл. Или «Душа моя». И исчезли эти вёрсты, стали как стекло, как воздух, только руку протянуть – и дом, там, где был всего полный один день с нею. Из Вологды отправил письмо, неделю тому, что, может быть, мимо Ярославля обратно поедут, и царь обещал по возвращении в Москву, в июне, отпустить его на отдых в вотчину. До осени, до начала сентября. Должно быть, уже получила… Он видел тот искрящийся снег, что днём слепил весенним тёплым золотом, и таял под ладонями солнца, не ропща. Обращался влагой, сладкой свежей новой жизнью… Тогда же открыты стали и границы, мор отпустил вроде бы, забрав свою жатву. Всё же хорошо, что они теперь не в Москве, в который раз подумалось. Скучно ей там, в деревне, должно быть, да матушка умеет занятия найти, а Душа его, кажется, не чужда совсем таким радостям, как то же блаженное созерцание невинного мира природного… Как дома будет, что она там наведёт, какие свои «пригожества по стенам», любопытно? Он улыбался неосознанно, вдыхая встречные потоки ветра, дымков отдалённых, и счёт теряя времени.
Плащи были свёрнуты, теплело заметно, вёрсты потянулись бессчётно уже, и хотелось бы подкрепиться. Делать это они уговорились на ходу, добывая хлеб и сушёные припасы из сумок седельных и фляг, используя весь свет дня и хорошую погоду для продвижения вперёд, сколько возможно. Ну, либо до остановок на водопой. Как и говорил Федька, не чаще чем вёрст через шестьдесят, чего ни одна другая лошадь, конечно бы, не осилила. На кратких привалах, не более получаса, пускали они в долгом поводу аргамаков пощипать травы, и Федька раздавал по чуточке дивных лепёшек из вяленой баранины с салом, и снопики высушенного клевера. И одной полушки такого яства хватало благородным кораблям их на целый следующий перегон…
Вечерело упоительно, когда, утратив уже счёт дню, приблизились они к низине реки Волги. К окаёму промысловых мест, близ Рыбной слободы18… Стали часто попадаться подводы, целые обозы, люд разношёрстный, купцы всё больше и артельщики промысловые. Дыхание и шумы большой реки здесь уже гуляли свободно в стынущем пряном воздухе… И тут, на исходе целого дня пути, переправясь прежде через Волгу дважды (так как делала она широкую петлю, змее подобно, с промежутком в вёрст десять), с помощью лодочников и немалого им барыша за догляд за бесценными конями, нашли они ладный двор местного артельного головы. Там и устроились… Но прежде уговорились не спать всем сразу, а всё же, за эти семь часов тьмы, попеременно, пара на пару, нести тихий караул. Мало ли что. Люд здесь всякий… Перехожих много. А у них восемь таких коней, что за каждого пуд не то что серебра – золота отвалят…
Усталость, сперва не осязаемая, теперь накатила, в тяжёлой дрёме, и начала ломать всего, подминать, исподволь… Он очнулся в темноте, определив оранжевый огонёк перед собой, чуть вверху, как лампаду, наконец. И сразу же услышал переговоры, и даже не понял сперва, что за речь… Не басурманская ли! Но… нет, то была всё та же русская, сильно природная только, речь. А с волжанином говорил Чёботов, в проёме их пристороя, самого лучшего на всём дворе, отодвинув рукою вверх тканую толстую занавеску.
Так он вымотался и натрудился, что, сколь не силился понять, не смог, постоянно засыпал… А Чёботов казался неутомимым. «Скажи им, если коней хоть тронут, хоть глянут – порублю всех…» – бормотал он сквозь сон, или это только казалось, и что тепло большого тела рядом снова утопляло его в тяжёлый желанный сон, и всё уходило. «Сказал, не беспокойся!» – будто бы слышалось в ответ всякий раз, и он кивал и опять проваливался в сонную пустоту.
К рассвету они спали все. Артельщик из местных растолкал их в сумерках сладчайшего и свежего майского утра, как они и просили; где-то рядом уже постукивало и позвякивало, двор вовсю оживал, истошно орал петух. А кое-кто из рыболовов только возвращался с ночного промысла… Первым делом, накинув кафтан и сбегав на двор по надобности телесной, Федька метнулся в конюшню. Там уже возился Вокшерин и кто-то из людей головы, приданный им в помощь. Раздобыли ячменя, как можно скорее накормили и напоили коней, и Федька придирчиво осмотрел всех, не нашёл никаких повреждений, и стал седлать своих.
За простой трапезой ещё раз поспорили, какою дорогой мчать дальше. Хотелось бы одним махом срезать чуть ли не половину вёрст и двинуть через Бежецкий Верх, через Городецко, и уже оттуда, через Вышний Волочок на Торопец, или же сразу на Великие Луки выбраться. Но поскольку точно той дороги не знал никто, имея при себе начертанное руководство только, да и то – по Тверскому тракту, большому и людному, мимо которого уж точно не проедешь и не заплутаешь, всё же решили не дерзать без надобности. Да и бывшие при разговоре мужики, родом из Бежецкого Верха, ввернули слово, что, дескать, и не просохло ещё как следует, и дебри там дальше непролазные, и перелезать сто раз ручьи, бочаги и старицы, топкие низинки вкруговую обходить резону нет, коли спешка такая. И по буеракам просёлков гнать тоже несподручно, коней таких только портить, не дай Бог, на тыще горок и ямок нога подвернётся, о кротовины всякие, бурелом да снег закоржавленный по овражным пролескам. Места такие, что загона доброго цельного под распашку днём с огнём не найти, всё серозём да суглинки, песок да щебень, плуг затупишь до щербин за одну полосу… А то, скажем, пустошь громадная – а толку от неё чуть, даже дичи справной нету, одни, тьфу ты, кикиморы. А жить-то с чего. Скотину вон выгнать некуда, осокою не накормишь… А будь добр ещё на зиму уготовить корму, да на поместье хозяевам, да на государеву пошлину, войсковую, по уставу новому, запаси, хоть сноп. Ээх…
Этак слово за слово, как бы меж собою, но и господам-гонцам также слышимо, дошли рыбари, бывшие крестьяне бежецкие, и до боярина Фёдорова-Челядина, имевшего как раз в Бежецком Верху самые обширные владения. И старину припомнили, что доставалось люду простому и посадскому лиха, ото всех: и от ордынцев, и от литовцев, и от тверичан, и от московских князей… И всё ж лучше, когда один хозяин у скотины, пусть уже не исконный Новгород19, Господь с ним, хоть бы и думный боярин московский, лишь бы разорения не случалось.
Федька присматривался и прислушивался, и обратился к мужикам этим, наконец, признав в их чудном говоре как раз новгородский простонародный, по которому сразу можно было бы опознать, откуда они:
– Так не советуете, ребята, стало быть, через Городецко соваться?
Они уже поднимались из-за стола, забирая шапки, и сабли с саадаками, из уважения к хозяину двора оставленные на подвесах у дверей.
Мужики сперва как бы замялись, но старший, с перебитым некогда носом, в самой чистой и незаношенной косоворотке, не глядя на Федьку, а куда-то мимо, поднялся, вылезая из-за лавки, и его товарищи, отодвигая опустевшие плошки, тоже.
– Да ведь как сказать, боярин, опять же, если спешите очень, то выгоды вам особой не выйдет, нет. Ежели б, скажем, вам по Мологе идти, или Мсте, или Медведице, то дело иное, тогда и до Углича, и до Твери, и до Ярославля легко добраться, особенно по высокой воде… Да и до Новгорода можно! Купцы у нас всегда, всякий год оттуда бывают, лён берут, а больше особо-то и нечего тут взять… В Весьегонске там ничего, льну много родится, так жить ещё можно… – он машет рукой куда-то к северу, а меж тем товарищи его угрюмовато и беспокойно поглядывают на господ-опричников, подпоясывающихся саблями и явно торопящихся.
– Да нам не туда, нам на Великие Луки надо.
– Так вот я и говорю, что оно если не по реке, можно бы по южной оконечности, по Московской дороге, по ямам, тогда на Вышний Волочок и Выдропужск…
– Да не надо нам Выдропужска! – засмеялся Федька. – Ладно, благодарствую, мил человек. Клёв на уду! – выходя последним за своими и надевая шапку, услыхал в ответ немного рассеянное «Наварка на ушицу!».
– Отчего мы ямской гоньбой не подались, а? – выводя коней за ворота, Вокшерин с упрёком будто оглянулся на Федьку и Чёботова. Но Чёботов занимался своими припасами, добавляя напоследок чего-то в седельную суму, а Федька, поглаживая Атру, переступавшего в нетерпении, по глянцевой морде и выслушивал того артельщика, с которым только что вроде бы простился. Трубецкой, хмурый и невыспавшийся, в седле поджидал остальных на большой, вытоптанной множеством ног и колёс песчаной плешине между заборами артельных подворий и мощёным спуском к берегу Волги, к тамошним свайным мосткам долгой пристани…
– Чего это он с тобой? – Вокшерин подозрительно щурился, а Федька пожал плечом и повёл бровью, мол, да так, пустяки, но Вокшерин не унимался. – Чего ему от тебя надо-то?
– Почему сразу надо…
– Так я харю его видал – просил он чего-то, явно. Отчего у тебя-то?
Видя, что Федьке как-то не хочется объясняться, Чёботов поравнялся с ними, пока дорога шла широченными колеями.
– Оттого, что Федя с ним по-людски, наверное…
Вокшерин хмыкнул:
– По-людски, ага. То-то он волком глядел вам в спину! С ними нельзя по-людски, тотчас на горб усядутся, я-то знаю, сподобился тут повозиться со своими, поместными…
Трубецкой вообще не понял, про что они, и его теперь тоже занимало, почему они, вправду, на ямщиках не отправились. Теперь, после первого дня в седле, даже у него, привычного носиться без устали с царевичем, всё отваливалось, и только по прошествии получасу быстрой рыси вперемешку с галопом, уже на выезде на Большую Тверскую, на Углич, размятые члены обрели прежнюю гибкость, и боль приотпустила. Федька, по правде сказать, то же самое мученье ощущал, и теперь размышлял, а в самом деле, не получилось бы лучше и быстрее ямской гоньбой.
Вокшерин продолжил жаловаться на непомерную наглость своих поместных поселян, что устраивают тайком в лесу, в самой чаще, себе пахотные наделы, а на свои законные кивают, да руками разводят – нет ни колоса, вишь, лишнего, не с чего ни десятину церковную, ни налог поместный отдать, самим бы прокормиться только-только. А между тем по очереди в лес шастают, как бы за хворостом и прочим, а когда их управляющий прижимает, да проследить грозится, чем они там всю страду заняты – все как один молчат, ни слова не вытянешь, стоят, лукавые, друг за дружку горой. А мне что делать, откуда брать надбавку эту, и с чего опять же, жить, как они скажут?.. И к ответу не притянуть мерзавцев – разбегаться ведь начнут.
То было правдой, и мужик, что Федьку задержал напоследок, тихой скороговоркой своей чудной, взглядывая коротко в лицо его и снова вперяя равнодушный взор куда-то вбок, сетовал на произвол и поборы, непомерные при таком негодном урожае, как у них случается. «Огородничаем, с того и кормимся, благо, коли с голоду не помрёшь в зиму, так ведь до мая, хоть оно и тепло, и светло, а жрать-то нечего, а ещё если рассаду морозом побьёт! «Наш пономарь понадеялся на май, да и стал без коров!». Вот и подались мы сюда, на промысел, да ведь это как господин-хозяин землицы посмотрит, а то и в беглые определит… И ловют, ловют и обратно возвращают, а по другому разу если – так батоги нещадно. А мы рази преступники, если помирать с голоду неохота?! А кто и дальше на Волгу бежит, а кто вовсе на юг, до Дона, где прожитьё получше… Народу поубавилось. А в радость, что ли, избу бросать, да если ещё кой-какая семья имеется…».
– Что ж ты от меня хочешь? – хмурясь, спросил он. – Идите к своему помещику да с ним миром решайте, чтоб лишнего не требовал, если не с чего в самом деле.
Мужик только скривился как-то досадливо и под ноги себе стал глядеть, и продолжил:
– Помещик далёко, боярин, да и не он теперь, а Николаевской Антониев монастырь судьбину нашу правит, поскольку в сей год объявили нам, что им отдарил нас со всеми потрохами хозяин. А там у монасей не забалуешь, игумен своё сдерёт, надзирает строго очень. А кто что не так, не по его – так и в поруб посадить может, и плетей задать… Митька-сосед посидел так пару недель в холоду, захворал да помер… Наш-то приказчик и то по-божески, хоть и лютый тоже, а не гнобил этак! И где нам управы на них искать?»
– Так от меня-то что надобно? – снова спросил Федька, нетерпеливо покусывая губу. Атра мотнул головой и всхрапнул, мужик попятился чуть, глядя так тоскливо и безнадежно, что захотелось поскорее убраться от него…
– Ты ведь к царю нашему близко, сказывают… – быстрый отчаянный шёпот раскрыл, наконец, в чём дело, – ты же крайчей при нём? Замолви слово, Христом Богом просим, а? Сил нет, сколь уж жалоб стаскали, челом били своим тут, да толку никакого. Бумагу примут, и на том конец.
– Да я хоть и близко, да не моего ума дело – такое вот… Земщиной у нас князь Мстиславский заведует, к нему челобитчиков шлите! Коли Челядин вам не защитник больше…
– Ээхх… – как-то совсем уж поникше протянул мужик и скованно махнул коричневой согнутой пятернёй, и глянул так, что у Федьки нехорошо захолонуло сердце. – Замолви, чего тебе стоит, а?! Царь наш милостив, сказывают, только до всего враз снизойти не может, а ты бы сказал ему про нас тут, а? Век молить за тебя будем…
Ничего отвечать не стал Федька, только головою качнул, и отвернулся, пошёл к воротам. И последний этот взгляд невозможный всё стоял перед ним… Столько в нём было исступлённой надежды, и заискивающего какого-то прошения, и такой неизбывной тоскливой ненависти, что никогда ещё Федька не встречал такого по себе… Даже от придворной своры, даже от тех, кто, Иоанна скинуть мечтая, и всех ближних его падалью в канавах увидеть мнил. Нет, то была другое, не такое страшное… И после, много вёрст и часов спустя, не оставлял его этот взгляд, точно укор, точно он был виновником всех бед этих людей и полуголодного их прозябания. А близость к царю его – чем-то постыдным, в чужих всех глазах, виделась, потому как даже пользы никакой от этого никому из них не получалось. И бесили его эти мысли и противное воспоминание непрерывно до самого Углича. Там остановились ненадолго совсем. Он отвёкся опять на коней.
В Калязине опять переправлялись через Волгу, и Федька начал дивиться разливу её и простору… А какова она под Астраханью, и вообразить нельзя, сказывают. И вперёд, вперёд, и всё среди лесов больше, вдоль дороги под распашку клоками вырубленных, через Верхнюю Троицу, Горицы, к большому селу Кушалино, где, по карте судя, главный путь разделялся на тот, что прямо через Тверь идёт, и тот, что с севера обходит суматошный этот многострадальный город. Там опять отдыхали… Решено было, пока погода прекрасная и все вроде в силах, до самого Торжка двигаться без остановок, пусть бы и до ночи. Поскольку среди кромешного елового чащобного леса ночевать никак не хотелось. И волков опасались, и лихих людишек… Ничего, поднапрячься – а там завалимся на всю ночь. Атра отдыхал, неся теперь сумы и тюк, довольно лёгкий, с запасом самого необходимого на этот перегон, а Садал Сууд, рыча непрерывно и норовя прянуть от обочинной тьмы, тем не менее исправно служил хозяину, что, конечно, радовало очень. С попадающихся попутно неровных полос и наделов, только засеянных, придорожных оврагов, полных талой водой, заболоченных светлых от сухого камыша пустошей, утыканных чёрными мёртвыми и умирающими вётлами, тянуло огромным незнакомым весенним простором, по которому рассеян был народец… Дым светло-зеленый и закипающие сады, соловьиные балки и целые рощи черёмух смутно туманно виднелись среди этого живого мрака, и редкие блёклые огоньки человечьего жилья мигали, там, где не спали отчего-то их обитатели.
Под ночь уже опять слышали соловьёв, близко совсем, да так оглушительно, что топот копыт заглушало местами. И если бы не падали уже почти с сёдел, полюбовались бы душевно…
А пятнадцатого дня20 месяца цветеня, как раз в канун отъезда их из Вологды, день соловьиный настал по всему Русскому простору… И слушать «певцов Божьего сада» вышел государь сам, поутру, до света ещё, после молитв. Там, в посадском саду, под стеною нового Вологодского Кремля, напротив царского покоя, оглушительно провозгласил себя первый из них. А после сразу зацокало и зазвенело переливчато отовсюду. Сердцем умилившись, велел государь не медля собираться и отправляться к Свято-Успенскому Кирилло-Белозерскому монастырю. Всё и так было готово со вчера, и сто двадцать вёрст к вечеру одолели малым поездом. А царица Мария со своими боярынями, чуть свет, проследовала далее, где всего верстах в семи скромно обитал Горицкий Воскресенский монастырь, в котором как раз сейчас, второй год уж, отбывала свою опалу княгиня Евфросинья Старицкая, и с нею вдова царского брата Юрия, княгиня Палецкая, постриженная по смерти его под именем инокини Александры. Надо сказать, слухи распускались о бедственном положении Евфросиньи в заточении, однако перемещалась она по окрестностям свободно, и нельзя было сказать, чтоб очень нуждалась, а сама исправно в Кириллов жаловала что-то душеспасительное. Вот и недавно, в канун государева приезда, навещала из своего Горицкого Белозёрскую обитель и беседу имела с игуменом, и добавила к шестнадцати образам, уже хранящимся там от её щедрот, ещё четыре, с пеленами, шитыми золотом и серебром, а к ним – чарку серебряную и десять рублей.
Процветающая, внушительная каменными крепостными стенами и многогранными башнями, не уступающая размахом и числом строений Троицкой Лавре, над самой гладью Лохты21 обитель эта словно покоилась дремотно. Не было здесь той деятельной суеты, что их встретила в Лавре, всё казалось тут тишайше благолепно замеревшим. Весна не спешила, холодком и большой водой пахло, дымом, простором таким, и ветерок, снежно-сладкий, доносил ровный шорох сухих зарослей тресты со взмелья в отдалении от берега… По лёгким волнам озера Глубокого бесшумно скользили стаи уток, и две длинные тёмные лодки со стоящими на их носах фигурами, не то монахами, не то просто в долгополых кафтанах, и с тонкими длинными жердями вёсел в медлительном скольжении. Так Белозёрская «Великая государева крепость» и запомнилась Федьке. И даже после того, что узнал о её тайнах нелицеприятных, вставала эта картина мирная перед ним, как образ, долженствующий незапятнанным быть.