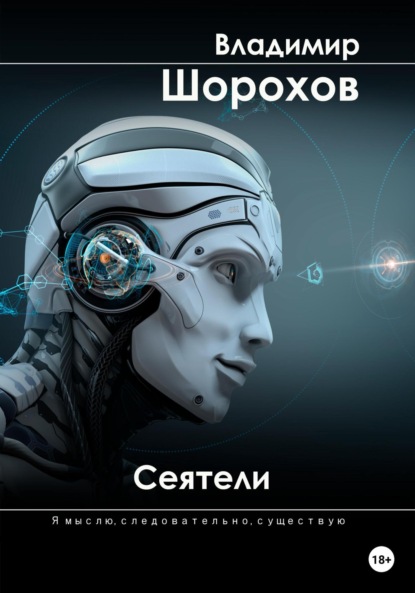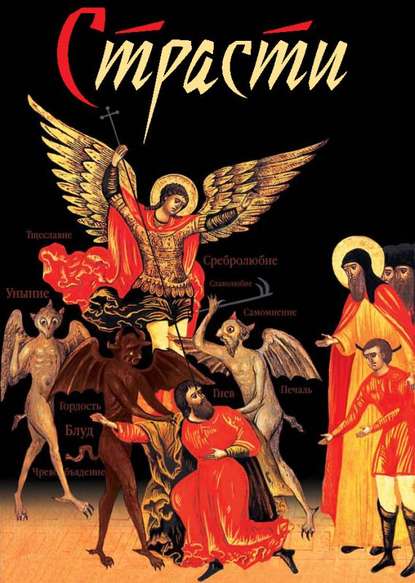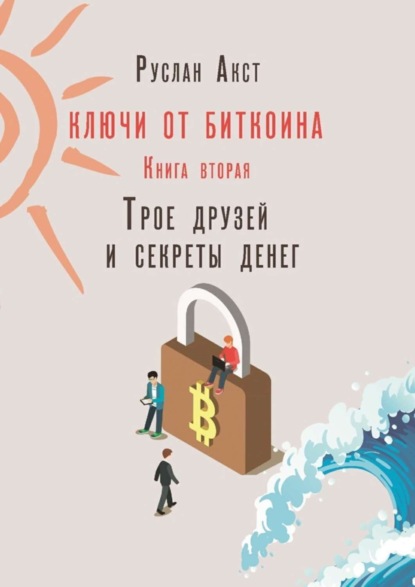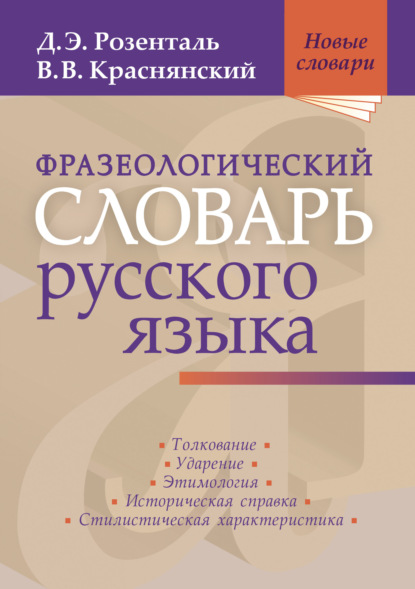Царская чаша. Книга 3
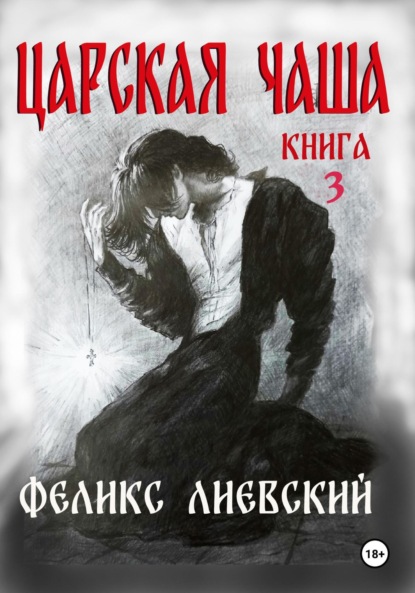
- -
- 100%
- +
Проходя внутрь Святыми воротами, под звон колокольный, Иоанн оглядел удовлетворительно леса над возводимою тут же, над ними, церковью Иоанна Лествичника, что заложена была по его велению и по вкладам царевичей от имени его. Только начиналась она, первым венцом, но быть обещала очень красивой, с высокой стройной башенкой кровли и луковкой серебряной.
Дальше было всё обычным порядком, игумен Кирилл с братией, и старцами, разумеется, в чёрных коптырях, в знаках схимы, встречали, кланяясь, и государь ему к руке прикладывался и благословения просил.
Трапезная поразила простором, саженей семнадцать на семнадцать, не меньше, с высоким гранёным столпом церкви Введения Марии во храм, с нарядно украшенным кокошниками большим барабаном, через который проникало много света… Житийников кеновийных тут толкалось до восьмидесяти сейчас. И они косили на государя, кланялись, само собой, и смиренно садились по лавкам перед столами, а меж ними, разнося угощения, сновали иноки помоложе и служки. У одного такого Федька принял поднос, чтобы отпробовать самому то, что выставлялось перед государя с царевичами… Тут же рядом, по чину, восседал боярин Хабаров с бояриным князем Фоминым, которые именовались теперь инок Иоасаф и инок Варнава. Федька отметил их дородность и полнокровный вид, как бы опровергающие страшные толки о здешних монстырских зстенках. А под застенки для ссыльных опальных определён был тут целый тюремный двор, с отдельными, Троицкими, воротами.
– А где ж Шереметев? – Иоанн с одобрением отведал монастырской ухи, обратившись сразу к игумену и обоим «сидельцам».
– Так а он хворает, вроде бы как, просил сегодня себе трапезу в келью доставить, Великий Государь! – с ехидством, как показалось Федьке, отозвался Хабаров, а Фомин кивнул, добавивши, что «инок Иона потребовал себе горячего вина красного, полбочонка», а также двоих своих тутошних приятелей, тоже из остриженных своих дворцовых, и вот они этак болеют вместе. А бывало, что человеков до осьми в одиночную келию к нему набивалось, и тут уж одним полубочонком было не вылечиться никак. Игумен страшно глянул на Фомина, однако ничего от себя не стал говорить, так что сразу понятно было, что никто тут Шереметеву не указ. «Э-э, а вас, стало быть, не приглашает, то-то вы друг дружку скверно выставляете! Никак, пособачились!» – Федька отпил глоток, с поклоном ставя серебряный кубок справа перед государем. Иоанн повёл бровью, а сидевшие чуть поодаль пришлые старцы из Ферапонтова скита и Нило-Сорской пустыни переглянулись, несомненно, весь разговор слыша. И с поклонами многими государя сопровождая из-за стола, не замечая слегка обеспокоенных взоров игумена, на них кидаемых, испросили дозволения с государем побеседовать на досуге и без помех.
После отдыха и молебна обыкновенного, длившегося никак не менее часов четырёх и с певческим хором, очень даже недурным и немалым, государь посетить пожелал книгохранилище, и ту часть монастырских палат, где хранилась казна. Потому как всегда, и в этот раз тоже, не с пустыми руками прибыл, конечно. Зная внимание Иоанна ко всему, что касаемо хозяйства, не менее чем к духовному исканию, игумен Кирилл провёл его чрез все поварни, что длились обширно вдоль Сиверского озера, и через летний квасной погреб, примыкающий к поварням, угоститься ещё раз добрым крепким квасом, которого всякого изготовлялось здесь в избытке. В хранилище оказалось уже и повернуться негде, так тесно громоздились там лари и всякие поставцы с вешалами, где со вниманием и прилежно таились от света всевозможные дары от разных дарителей. Государева казна, пополняемая тут постоянно, последнее время обрела ту же важность, что нынешняя Вологодская. Опять невесть как, но молва просачивалась, что царь, дескать, боярам и воеводам своим не доверяет, и, к походу новому готовясь, исхода его не ведая, на Бога полагаясь, и себе соломку подстилает, да всё из золота с серебром, а сам, случись чего, бежать хочет не то в Швецию, не то поближе, но точно через Ладогу…
Рассматривая богатейшие сабельные ножны и другое разнообразное оружие, всё с наводкою драгоценной, Иоанн заметил, что вскоре уже мало будет места, и пора строить Оружейную палату, подобно Кремлёвской. Игумен охотно согласился, и так вышли они обратно наверх, с южной стороны казённого хранилища, к священническим келиям.
Всё так тихо, мирно, недвижно было опять. Свежий и светлый, как стекло, день погасал. Чисто выметенный двор стоял пустой, вся братия в этот час по своим кельям сидела, как видно, занимаясь всё тем же делом, что «всему главизна» в монашеском поприще, то есть – именно неустанною и непрестанною молитвою о грешном мире, и благоспасении душ своих. Федька усмехнулся, представив, что и Шереметев, который не явился к трапезе пред очи государевы по причине хвори, называемой похмелье, разумеется, может, тоже молится, как знать, а скорее всего дрыхнет, как и его сотрапезники… Как и Хабаров с Фоминым. И уж их души, несомненно, в мире пребывают и полном со всем согласии.
Опять стало слышно соловьёв… Над поварнями закурились все трубы над не менее чем шестью очагами, и засновали туда-сюда работники, чёрные трудники, большинством в мирском, но кто – в рясах простых послушнических, подвязанные длинными фартуками. Впрочем, кроме как кухонной суеты, да ещё по уборке обширных дворов, как-то не заметно было никакой особой деятельности. Невольно припоминалось большое и многосложное хозяйство, что затеял и держал так успешно у себя на Соловках бывший их игумен Филипп… Как сказывают, сам не гнушался он никакого труда, хоть и не должен уж был по сану ни дров пилить, ни зерно ворошить, ни по мельницам и пахотным угодьям мотаться. Федька спросил тихонько у старца Дионисия, что из Пустыни, чем обычно день монаший занят, и отчего здесь не видно никого из монашествующих ни за каким делом… По келиям, может, прядут либо шьют чего, как это в женских обителях заведено? Они как раз направлялись поклониться гробу преподобного Кирилла, обители основателя, и он отделился от государя, шедшего впереди с возвратившейся из Гориц царицей и сыновьями, в окружении священства. Старец Дионисий ответствовал благостно и ожидаемо: сюда, в обитель, приходят не за суетностью смертной доли, а небесной благости взыскать, и нуждающиеся в покое, оттого все заняты молитвенными помышлениями непрестанно. И Господь, видя то рвение, хранит их как-то… Зато и других, кто окрест обители по счастью проживает, вознаградил об попечителях блага их душевного возможностью заботиться, каждому по промыслу его земному: крестьянину – пахотой, охотнику – добычей, солевару – солью, а именитому помещику – и прочими излишками имущественными. Монахи же от даров этих по скромности своей не отказываются, тем и живут. Отчего Федьке помнился в ответе его, вроде бы очевидном, подвох скрытый, он и сам не знал. Но это вскоре, тем же вечером, прояснилось вполне.
У раки с мощами преподобного Кирилла речи были, величия преисполненные, и вспоминалось житие этого великого, несомненно, монашества русского подвижника, наравне с преподобным Сергием Радонежским, святителем Дионисием Суздальским и Стефаном Пермским, митрополитом Киприаном, и прочая мужи, благородно просиявшими. Как не помянуть тут было Нила Сорского, с его Пустошью, и Иосифа Волоцкого, конечно, в обители какое-то время также подвизающегося…
А вот уже поздним лучезарным вечером, когда Пустынский и Ферапонтов старцы, игумен, благочинный с духовником22, келарь с подкеларником и служкой с большим фонарём впереди всех прошествовали до самого края братского келейного двора, государь их и свиту свою остановил. И там, торжественного горения преисполнясь, опершись о руку царевича Ивана справа, а о его, Федькину – слева, пал на колени перед игуменом Кириллом и просил смиренно о месте себе в обители. Не теперь, но как только душа его, устав от горести мирской, захочет ото всего удалиться, и лучшего места для стяжания Божественных исканий он не находит. И того же просил для сыновей, чтоб и у них, сейчас прям уже, кельи свои тут же были. Притом жаловал государь двести рублей единым вкладом на зачин дела этого. Игумен так растрогался, что слёз не удержал, и голосом дрогнул, государя благословляя… Конечно, по государеву чину здесь келий не было пока что, игумен обещал выстроить их наилучшим образом, достойным величия такого затворника, и сколь не убеждал его Иоанн, что не требуется монаху того, чего царю в палатах полагается, он кивал и ладонью умиротворял спор этот, и ясно было, что сделает по-своему разумению.
Колокол обители прозвонил протяжно искончание дневных трудов всех. Издали по водам, точно эхом, отозвалась Горицкая, и совсем уж еле различимо – Ферапонтова…
Казалось бы, полное благорастворение состоялось, к тому же май – время самое наилучшее для такого занятия, поскольку гнус несносный ещё не вывелся и не начал усугублять собою возносимые в небу молитвы, а было лишь тишайшее наслаждение несказанной лучезарностью во всём мире цветущем… И оставалось только ночное заседание со старцами, по обыкновению проводимое Иоанном, когда он уже в постели возлежал в отведённой ему палате, в игуменском подворье.
Федька приготовился опять к скучнейшему, зато скоро усыпляющему говорку старцев, которые все ему на одно лицо казались, благостному, тихонькому, как всегда, что он до сих пор видел. Так оно и случилось, и среди расспросов Иоанна о том, каково теперь их житьё в Пустыни, много ли там насельников, и чем они заняты, Дионисий вздохнул несколько раз, и с последнего начал, добыв из сумы поясной некий свиточек.
– Вот, составили мы тут со Старчеством полезную мысль, наставление. Особенно касается сие обежитийной братии как раз… Зачту, позволь, государь. «О благоговейном поведении в Церкви так надлежит рассудить себе: если из вас кто пришёл бы с жалобою к царю или же князю, смел бы пред ним стояти, испрошая, кое-как опираясь или преклонясь к чему, или с другим что говорити, или по нужде кому слово промолвити, и по немощи пред собою плюнет, или сморкнётся, или почешется где, или на сторону глядеть будет – разве на ум кому взбредёт! И то опасно вельми. Сколь же паче, братья, нам стоять бы со страхом и трепетом перед образом владычным Царя Небесного, Его же всячески боясь и почитая».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Жаворонки – пирожки в виде птичек, по традиции пеклись на приход весны и имели сакральное значение.
2
Несудимая грамота – подвид правовых документов, действующих в России до 17 века, акт-договор, закрепляющий право владельца (в данном случае – митрополита как феодала) в отношении зависимого от него населения, подданных и проживающих на этих землях, судить его по всем вопросам самостоятельно, независимо от светских центральных и местных властей. То есть, даже царский суд не мог вмешиваться во внутренние дела этих владений, в чём бы они не заключались, если это не убийство, разбой и кража с поличным.
3
Богословское сочинение преподобного Иоанна Дамаскина, популярное среди образованных людей того времени.
4
Распоряжением царя Ивана IV и под присмотром митрополита с 1567 года было велено устраивать школы при монастырях и церквях, в которых могли бы по желанию родителей обучаться азам грамоты и счёта, а также Закону Божию, все способные к этому дети, вне зависимости от сословия. Государственная машина управления через местные Приказы требовала всё большего числа грамотных чиновников и делопризводителей. Также было постановлено учреждать при этих заведениях ремесленные классы, иконописные и певческие школы.
5
Святой Лука почитался на Руси покровителем иконописцев, и его образ традиционно является неотъемлемой частью всех заведений, имеющих отношение к процессу создания икон, начиная с первых иконописных школ, возникающих в начале XI века.
6
Ассист – в иконописи лучи и блики, исполненные тонкими штрихами золотом или серебром и составляющие рисунок одежд, волос, перьев на крыльях ангелов, нимбов и т.д. Символизирует в иконе присутствие Божественного света.
7
Доличник – мастер, который пишет всю икону, но кроме лика. Соответственно, личник – тот, кто умеет писать и лики тоже. В таких больших мастерских, как Троицкая, часто применялось такое разделение процесса для ускорения его, когда икон изготовлялось много, и мастера высшей категории могли не тратить время на то, что прекрасно получалось у узко специализированных, доличников, и учеников.
8
Рефть – краска серого оттенка, разбавленная белилами, давала имитацию как седины, так и светлых бликов.
9
Свистят – то есть, выделяются слишком резко, ярко на общем фоне.
10
Цитаты из «Откровения» Мефодия Патарского, канонизированного в 16-м веке на Руси святого и богословского литератора древности, рассуждающего о благе пути веры и грядущем всего человечества.
11
Векша – белка, ласка, куница или другой меховой зверёк с невысоким, лёгким мехом.
12
Набор необходимых в любом хозяйстве предметов здесь, при совершении обряда новоселья, носит ещё и сакральный характер.
13
Коник – лавка на условно мужской половине общего помещения в русской избе (или тереме), расположенная особым образом, и названная по наличию резной конской головы с одного бока.
14
Долгая – лавка женской половины общего помещения, обычно длиннее мужской. На ней, расположенной вдоль стены под божницей, обычно между двух окон, женщины занимались своей работой, рукоделием, здесь же удобно было, не вставая с неё, качать колыбель. И на долгую лавку клали под белое покрывало усопшего в самом начале погребального обряда.
15
Голубец – в православной культуре воздвигался как поминальное сооружение в виде креста с двухскатным покрытием, как бы крышей избы, из двух досок, объединяющим три верхних конца крестовины опоры, или в виде более сложных сооружений, имеющих развитую кровлю с охлупнем, причелинами и помещенным в средокрестии, нишей, объёмным киотом. Знаки такого вида унаследованы от дохристианского культа почитания предков и обережного обряда. Такие кресты-голубцы также ставились на границе кладбищ, у дорог, как обозначение какого-то знакового места, и помещаемые в их киоты свечи и иконки придавали им значение и вид миниатюрной часовни.
16
Хокейлан, хабдан, сиглави – Разновидности арабской породы лошадей, отличающиеся чертами экстерьера и некоторыми качествами. Среди прочих сиглави считается наиболее ценным древнейшим (точнее, бесценным) видом чистокровной арабской лошади. Происходит из культуры берберов, с Аравийского полуострова.
17
То есть сменная лошадь, на которую пересаживались, чтобы первая отдохнула от веса всадника, и не приходилось прерывать движение
18
Нынешний город Рыбинск Тверской области
19
Исторически земли Бежецкого Верха, как и прилегающие области к северу, «пятины», находились под властью Новгородского княжества. В 14 веке в результате внутриполитической борьбы это всё перешло под патронат московских князей, но вплоть до 19 века оставалось предметом территориального спора между субъектами уже единого Московского царства. Жители этой местности долго ещё сохраняли особый говор, элементы в одежде и устройстве быта, напоминающие о новгородской культуре.
20
15 мая (2-е по старому календарю) – напомню, что здесь автор намеренно применяет нынешнюю систему календарного исчисления, чтобы читатель мог верно представить, на фоне какого погодного отрезка сезона года происходит действие.
21
Лохта – историческое название залива, на котором стоит монастырь. Является частью обширного озера Сиверского, в те времена в разных источниках ещё именуемого Глубоким.
22
Главные после игумена (настоятеля) монастырские должности, его прямые помощники, отвечающие за соблюдение Устава и общий порядок, и нравственное здоровье обители.