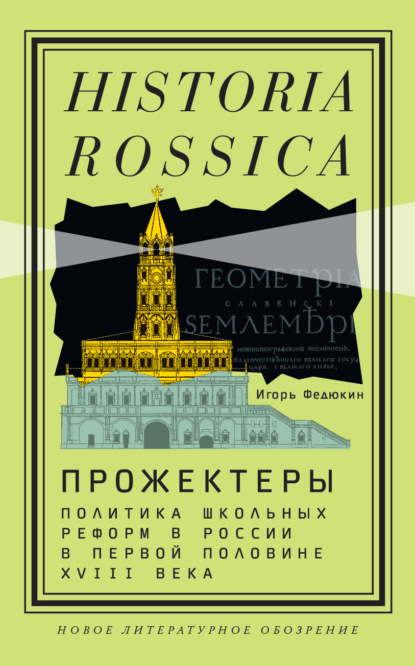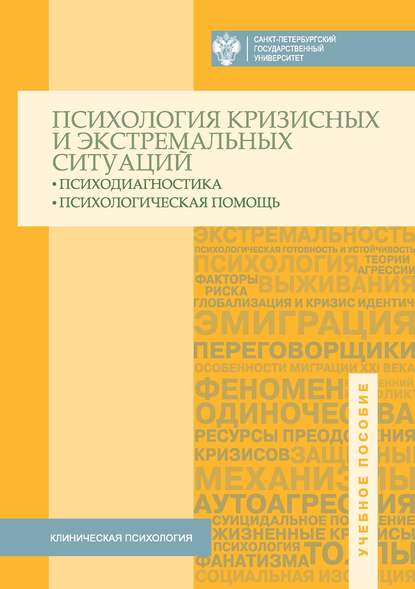- -
- 100%
- +
Старшина посмотрел на взвод.
– Ну, что стая, сегодня поведу вас я.
Краткое и негромкое троекратное "ура!" огласило окоп, в подтверждении преданности стаи своему вожаку.
– Ну, хлопцы, не подведите меня старого. Вперед! – крикнул Стрый и первым вылетел из окопа в кувырке. Он был хорош. Очень хорош! В холке он превосходил любую особь из своей стаи в полтора, а некоторых и в два раза. Морда, подернутая оскалом, была по ширине больше моей грудной клетки, а красные зрачки ярко выражались на фоне серебристого, почти белого меха. Царь волков и никак иначе.
За своим вожаком пошла вся стая. Вот тут и становилось понятно происхождение кличек. Я долго не мог понять, почему у светловолосого парня погоняло Ярый, а у парня с простыми русыми – Черный. Для этого нужно просто видеть, во что они превращаются и все сразу становится на свои места. Вот в плавном медлительном кувырке оборачивается Рудый, вот выходя из кувырка первым вдогонку за вожаком, капая с языка слюной в задоре бежит Лютый, вон зияя обожженным когда-то боком, несется Паленый. Это их настоящие сущности, сейчас они те, кто есть на самом деле, а не те коими претворяются в человеческих обличьях.
Я боялся. Честно, боялся. Тяжело не бояться, когда рядом с тобой вырастают такие животные, способные разорвать тебя на ходу одним щелканьем пасти, не заметив этого. Я боялся, но в то же время восхищался. Восхищался их неимоверной грацией, силой, ловкостью и точностью движений. Восхищался краснеющими глазами, что полны были решимости и жажды, азарта и уверенности. В этих зверях было чем восхищаться.
Беда всех служб мира того времени, борющихся с диверсантами, заключалась во мнении, что борются они исключительно против людей. Даже постовые на вышках и дозорные в окопах сначала не предали значения несущейся на них стае то ли волков, то ли собак. Вдруг это бездомные собаки в поисках пропитания? Ничему-то нас жизнь не учит. Еще недавно их коллеги падали от бешеной атаки этих существ, а сегодня они, улыбаясь во всю ширь их фирменной альянсерской улыбки, визжат что-то на подобии: Бобик, спляши, сардельку дам.
Волколаки пронеслись мимо, не останавливаясь, искривив их выражения лиц предсмертным оскалом ужаса. Я старался не вылезать высоко из окопа, дабы нарочно не подставляться, но зрение мое было приковано не столько к наблюдению диспозиции вокруг, сколько на пир безжалостных оборотней в центре обороны врага. Мне даже на миг стало жалко противников. Они пешки и не знают против кого сейчас воюют. Они палят по зверям, но от шкур отскакивают их слабые пули, поражая рикошетом тех, с кем они воюют плечом к плечу. Но слабость была не долгая, ибо сразу вспомнились картинки военнопленных, украшенных последствиями нечеловеческих пыток, полностью разрушенные города, стертые с лица земли и сожженные дотла деревни. Не мы к ним на землю пришли, они к нам. А захватчикам на имперской земле легко помирать никогда не доводилось.
За размышлениями я пропустил тот момент, когда стая пересекла рубеж третьего вражеского бруствера. Я быстро поднял рожок и что есть мочи дунул в него. Стая тут же развернулась в обратную сторону, и я уже обрадовано готовился их встречать, как Старый издал вой, вследствие которого, вся стая кроме двух волков нырнула в уже очищенный от врага окоп.
Двое зверей, подлетев к месту старой дислокации, где я и находился, схватили зубами как можно больше вещей и ринулись обратно. Точнее ринулся один, а второй медленно подошел ко мне и начал тыкать меня ниже поясницы носом, подталкивая из окопа. Что я и сделал. Потом он показал мне, что нужно ползти и, дождавшись от меня нужных ему действий, рванул за первым с вещами в зубах.
Время тянулось, спокойно. То альянсеры нас пытались атаковать, то мы жучили им хвост, объясняя на деле, с кем они столкнулись. Я начал привыкать к своему новому статусу, подружился со всеми, перестал любоваться красотой и смертоносностью своих бойцов. Но в один прекрасный день, все изменилось.
– Разведка, тебе пакет от начальства.
Пакет гласил, что мы должны, несмотря ни на что, взять «Змеиное ущелье». Это ущелье располагалось к тому времени почти прямо перед нами и взять его одним нашим взводом не представлялось возможным, даже со всеми возможностями моих подопечных. Все ущелье простреливалось из тяжелых орудий, в коих альянсеры дефицита не знали. Шкура волколаков конечно во много раз толще, чем лучшие виды человеческой защитной экипировки, но и она не выдержит прямого попадания снарядом. А именно так, скорее всего и будет обороняться враг, уже успевший понять, с чем они имеют дело.
– Старый! – позвал я.
– Что тебе, Разведка?
– Тут приказ от начальства, посоветоваться хочу.
Старый быстро прочитал послание.
– А почему срок не указан?
– Старая военная хитрость, – ухмыльнулся я, – если не указан срок, то это означает, что нам на все про все отпущено не более двадцати четырех часов.
– Не густо.
– Не то, что не густо, это почти самоубийственно.
– Не плачь Разведка, пошли лучше посмотрим диспозицию и решим, что будем делать.
– А что ее смотреть то? Вон она как на ладони почти. Смотри, не хочу.
– Пошли, пошли. Отсюда видно конечно хорошо, но не все.
Мы пробрались к началу ущелья.
– И, что ты тут увидеть пожелал? Нас тут снарядами закидают, так что мама не горюй.
– Не ссать, товарищ лейтенант, ночью у них меткость снизится, и попадать будут меньше.
– Да им целиться не нужно. Они просто по площадям бить будут и все.
– С площадями проще. Мы не люди, нас осколками сильно не завалишь.
– Да…
– А вот это не есть хорошо, – оборвал меня Старый.
– Не пить тоже хорошо, – съязвил в ответ я.
Старый встал во весь рост и посмотрел куда-то на кручу ущелья. На противоположенной стороне стоял офицер полиции альянса. В черном кожаном плаще, в отбитой на манер "аэродром" черной фуражке, с одним серебряным погоном на левом плече.
– Да не ожидал…
– Что ты, Старый, не ожидал?
– Видишь фигуру?
– Вижу и что? Ты никак альянсерских офицеров стал бояться?
– Дурак ты, Разведка, если я кого-то и боюсь, то это явно не людей.
– Ты хочешь сказать, что это не человек?
– Познакомься с нашим противником, – сказал Старый и резко поднял меня на ноги на бруствер рядом с собой.
Офицер альянсерской полиции стоял уже перед нами.
– Высший вампир, командующий специальной бригадой полиции, барон Латен Кровавый.
– Рад видеть тебя, старый враг, – улыбнулся офицер, обнажая длинные клыки, – смотрю, ты не меняешься, все так же с человечками дружишь, да их интересы защищаешь.
– Да и ты смотрю, все так же воюешь за тех, кто сильнее.
– Такова жизнь, – улыбнулся Латен. – Будем играть в прятки, или просто сойдемся в поле без человечков.
– Сойдемся, – кивнул Старый.
– Полночь сойдет?
– Легко.
– Тогда до встречи, – кивнул Латен и исчез.
– И так, полночь, – сказал Старый и дальше молчал прямо до самых наших окоп. Потом, он провел быстрое совещание и скрылся в своей палатке.
Оборотни готовились к атаке основательно. Кто мазал себя глиной и всякими зловониями, кто чертил на своем теле витиеватые, причудливые узоры, кто-то набирался энергии, стоя впритирку с деревьями. Я ни разу до этого не видел настолько серьезных и напряженных лиц, как сегодня.
– Без десяти полночь. Все готовы?
Старшина был намазан какой-то дрянью, от него разило серой и жаром. Тело как будто подсвечивалось изнутри и на поверхность из внутренних сфер организма лезли рисунки, напоминающие татуировки. Я не раз видел Старейшину обнаженным, но это были краткие мгновения его превращений, сейчас же я мог удостовериться, что хоть вожака и зовут Старый, но телу его мог позавидовать любой атлет мира.
– Разведка!
– Да, Старый?
– Отойдем поговорить.
Мы вошли в блиндаж.
– Что хотел, Старый?
– Спасибо тебе майор, ты был хорошим пастырем.
– Почему – был?
– Это наш последний рывок. Если мы проиграем, то все поляжем в этом ущелье. Вампиры берут в плен только людей. Если выиграем, то будем прорываться в леса, ибо отдадим все силы на поле и оборот в человеческое тело обратно, просто прикончит нас. Так что рожок тебе больше не нужен, отдай его мне.
Я протянул ему рожок, он взял его в руку, подержал секунды две и со словами, – устал я, майор, очень устал, – хрустнул рожок на пополам.
– Твоя задача, Разведка, смотреть на бой, но как можно из более безопасного места, и сообщить его исход руководству. Понятно?
Я кивнул. Говорить ничего не хотелось, да и не моглось.
– Прощаться не будем, – сказал он, и вышел к стае.
– Что будете делать парни, если я вам скажу, что вы умрете сегодняшней ночью?
– Биться! – ответила хором стая. – Мы заберем с собой как можно больше врагов!
– А если я скажу вам, что вы обязательно выживите?
– Биться! И умертвим как можно больше врагов!
– Так слушайте, сыны мои! Вы или умрете, или выживите!
– Мы возьмем как можно больше врагов! – ответила стая.
– Амэн! – крикнул старейшина и крутанул кувырок.
Я плакал. Плакал от осознания обиды, что меня не взяли, плакал от невозможности им в чем-то помочь, плакал от грусти расставания. Не поймите меня неправильно, я не ревел как баба в три ручья. Я плакал и стонал внутренне, но из моих глаз выпала только одна скупая слезинка. Не пристало майору разведки, даже разжалованному до лейтенанта штрафбата, плакать.
Стая неслась хмуро и молча. Неслышно было, ни рева, ни воя. Хмурая и целеустремленная серая масса во главе с могучим вожаком. Вампиры налетели внезапно. Еще миг назад ничего не предвещало их появления. Но эта внезапность была только для людей, ибо оборотни не сплоховали, а четко ударили в самую гущу черных плащей и фуражек с маленькими серебряными черепами вместо кокард. Описывать этот бой было бы бессмысленным, так как человеческого глаза не хватало рассмотреть все нюансы сражения. Битва началась как бой групп, но очень быстро приняла вид многочисленных дуэлей. Оборотней было в полтора раза меньше, чем вампиров, но их стальные челюсти рвали черные плащи. По умению воевать волколаки легко справлялись с противником, но тот давил массовостью и нашим пришлось медленно сдавать позиции. Но они отступали не к нашей дислокации, а к стенам ущелья, дабы лишить вампиров с их скоростью перемещения возможности атаковать их со спины.
Сердце кололи тысячи иголок. Я уже мог различать отдельных бойцов своего взвода в зверином обличии, и это было тяжело. Вот упал с подбитыми лапами Рудый, Ярый стоит над лежащим Черным и не подпускает никого к брату, Лютый харкает кровью и шатается на лапах, но еще рвет подходящих к нему врагов. Старый занимался только одним вампиром, периодически отбрасывая и убивая тех, кто ему пытался помешать. Схватка Латена и Старого была в центре всего побоища, но была видна со всех сторон. Такие персоны не могут быть незаметными, а их поединок и подавно. Было заметно, что оба стараются не столько хорошо атаковать противника, сколько просчитать его возможную контратаку.
Старый сделал все грамотнее. Но открыл правый бок, и рассчитывая на скорость оппонента клацнул туда зубами, до того, как я увидел, что там уже находится рука оппонента. Зубы в миг сделали месиво из руки Латена, он закричал от дикой боли, и в это время оборотень впился в его шею и рванул так, что я чуть не увидел на земле свой обед, от картины отсоединяющейся от тела головы вампира.
Победный вой оглушил всю округу и вампиры, потеряв своего командира, начали медленно пятиться и отступать. Я уже обрадовано встал из-за своего укрытия, но все мы просчитались насчет честности альянсеров. Поняв, что их ударное оружие повержено, альянсеры сделали то, чего я и боялся. Они начали обстреливать ущелье из орудий. Причем, не прицельно стреляя в волколаков, а используя "ковровый" вид обстрела. Я прыгнул обратно в свое убежище, но не успел на долю секунды. Рядом что-то оглушительно бабахнуло, меня чем-то сильно ударило, и я провалился в пунцовую темноту. Дальше был госпиталь, восстановление звания как искупившему кровью и много чего еще, но это за один день не расскажешь.
– Вот вы здорово-то сочиняете! – воскликнул Сережка.
– Сочиняю? – переспросил Прохор Александрович, посмотрев на новенький костяной рожок, лежавший сверху телевизора, – ох, как бы я хотел, чтоб все это было мной сочинено…
Проклятый поэт
– Неужели ты не хочешь меня?
Дзинь-дзинь.
Ее голос был подобен дребезжанию хрусталя, тонкому колокольчику. Она знала, каким голосом нужно говорить, что бы мужчина слушал.
Ночь пахла черемухой и искрилась яркими бликами звезд. Ночь, как и она, хотела понравиться хозяину дома, хотела развеять его постоянный покой и тоску сотней своих красок, тысячами огней и миллионами звуков.
– Почему ты не отвечаешь?
Дзинь-дзинь.
– Зачем? Ты и так прекрасно знаешь ответ. Зачем говорить то, что и так, само собой разумеется?
Она подошла и легла рядом с ним на потертый старенький диван. Диван странно смотрелся в обстановке гостиной. Камин потрескивал и обжигал ноги теплом, согревая мерзнущую его плоть. Он любил камин. Он любил огонь в камине. Любил за дерзкое виляние его язычков, за шумное шипение поленьев, за буйство красок ежесекундно сменяющих друг друга на ярком холсте пламени. Он любил его за то, что казалось камин, был единственным предметом в этом доме, кой говорил о жизни. Шкуры на полу? Нет. Они когда-то были жизнью, видели жизнь и даже желали ее. Но это было очень давно. Сейчас же это были мертвые куски плоти, что лежали и молчали о смерти. Мебель? Это просто мертвое дерево, которому какой-то бездельник, именующий себя художником, придал форму классицизма, и вдобавок усыпал эмалью и каменьями, что еще больше подчеркнуло его мертвенность. Люстра заслуживала отдельного упоминания. Кто и зачем захотел слить воедино такую уйму латуни и хрусталя, оставалось для хозяина дома до сих пор тайной. А большей тайной для него было то, как тот человек, говоривший об уюте и эстетстве, и называющий себя смело дизайнером, смог его уговорить купить всю эту обстановку. Только камин, кальян и старенький потрепанный диван были дороги ему. Камин за свою жизненность. Кальян за свой покой и негу что дарил он своему обладателю. Старенький диван за память. За память о тех временах, когда у него не было своего дома, когда не узнавали его на улицах, а в его карманах звенел последний серебряник, о тех временах, когда она была рядом. О тех временах, когда она была с ним…
Как давно это было…
– Ты совсем не хочешь меня? – Она умело скинула с себя ту маленькую ткань, что едва прикрывала ее нагое и прекрасное тело.
– Ты же прекрасно знаешь, что совсем.
Она легла совсем рядом и прижалась своей трепещущей плотью к нему.
– Ты думаешь о ней?
О ней…
О ней. О самой прекрасной женщине на земле. О ней, с кем была связана вся его жизнь, там в далеком прошлом. О ней, что не отпускала его в сером настоящем и вряд ли отпустит в ближайшем будущем. О той, что, уходя, пожелала ему удачи. О той, которою он воспел на мертвой бумаге, слагая тоскливые и тусклы стихи, что так больно ранили его сердце и так нравились миловидным женам хозяев его славного города Вертепска.
Думал ли он о ней?
– Ты думаешь о ней? – Повторило существо, что лежало с ним рядом.
– Не мешай.
– Почему?
– Я работаю.
– У? – Тонкие брови округлились в немом вопросе.
– Я пишу стих.
– Но ты же не пишешь. У тебя в руках нет ни пера, ни бумаги, ни даже КПК на худой конец. Ты валяешься на своем стареньком диване в трех метрах от компьютера, и говоришь что пишешь?
– Для того, что бы писать, не нужны ни бумага, ни перо и тем более компьютер.
– Но чем же тогда ты пишешь?
– Эмоциями и чувствами.
– А разве ими возможно писать?
– О, еще как возможно! Выжимаешь сердце до последней капли и малюешь ими на холсте под названием душа.
– Ты серьезно?
– Весьма.
– Но душа же не материальна, на ней не помалюешь.
– Бездушное ты мое существо… Тебе этого, увы, не объяснить. Тот, кто тебя сделал, о душе, увы, не задумывался.
– Я создана не для этого. Мое дело уметь соблазнять мужчин. Заставлять их делать великие необдуманные шаги, на пользу моему хозяину.
Он ничего не ответил, она же прижалась к нему еще сильнее и замурчала.
Ночь. Он не умел писать в другое время суток. Таков был контракт, таково было проклятие. Такой был договор, который он заключил тридцать лет назад. Как быстро летит время…
Это случилось, когда она ушла. Он бедный, нищий и отверженный готов был на все тогда. В один ненастный, вечер был то чудесным, но для него все дни, вечера и ночи были ненастными, явился Он. В тот самый день, когда было все уже решено, веревка куплена и намылена. Он предложил заключить договор. Предложение Его заключалось в следующем.
– У вас, молодой человек, талант, но как принято у вас людей, вы его не то, что не раскрыли, вы его даже не обнаружили в закутках своей огромной и чувственной души. – Его улыбка была разоружающей. – Вы не пытались писать стихи?
– О чем вы говорите, какие стихи? Я как изволите видеть, вешаться собрался.
– Вешаться? Зачем же? Вешаться, какой вздор. Вы бросьте такие мысли. Страна, да что страна, мир не простит если такой величайший поэт как вы, покинет сию обитель не оставив после себя следа.
– Да какой из меня поэт то? Мои стишки это одно сплошное баловство. Их не приняли в литературную академию и отказываются печатать даже в самой замшелой газетенке.
– Ну, насколько подсказывает мне моя память, за талант при жизни печатались только единицы, а еще меньшему количеству поэтов за это платили.
– Ну вот, сейчас помру, а вы потом посмотрите, настолько ли я талантлив, что б меня печатать после смерти.
– Ну вот, опять вы за старое. Зачем вам вешаться? Зачем вам столь радикальные способы?
– Я вешаюсь не из-за стихов.
– А из-за чего позвольте узнать?
– Из-за нее!
– Бред.
– Почему же бред? Она была единственной моей путеводной звездой в пыльном просторе жизни. Без нее мне не мила жизнь!
– И что и кому вы докажете своей смертью? Ей? А самое главное, что вы этим докажете? Что вы слабый человек и сдались сразу же после своего поражения? Что вы трус и решили бежать, не борясь, из столь жесткого мира? Это вы докажете, но хочется ли вам что б она так стала думать о вас? Чтоб она уверовала в правильности своего поступка? Ибо не одна женщина не хочет быть рядом с неудачником, трусом и слабаком.
– И что же мне теперь делать?
– Писать!
– О чем?
– Обо всем. Вылейте свою боль на бумагу. И вам станет легче, и ей вы докажите, что ее поступок бы не правильным, и такого как вы она больше нигде не найдет.
– Но как она узнает? Меня же все равно не печатают.
– Это милостивый государь, я возьму на себя, есть у меня знакомый хозяин издательства, который многим мне обязан, вот к нему я вас и пошлю, – он протянул визитку.
Будущему поэту не показалось странным тогда, что совсем посторонний человек вмешивается в его дела, дает напутствия и объясняет ему что-то. Убитому горем человеку вообще редко что кажется подозрительным, а тем более акт помощи и поддержки. Ему даже не показалась подозрительной та визитка, хотя кроме черного фона и золотого теснения, там не было ничего написано, только огромный, почти со всю визитку кроваво-красный заковыристый вензель.
– А....
– Он будет к тому времени в курсе всего. И если вы покажете ему эту визитку, то он с большой радостью будет печатать ваши стихи и платить не малые гонорары.
– Чем я могу вас отблагодарить за все, что вы для меня сделали?
– Не забывайте, что это договор, и вы должны обещаться исполнять, кое какой пункт.
– Что за пункт?
– Вы сильно ее любите?
– Она для меня важнее всей жизни. И подтверждение этому намыленная веревка в моих руках.
– Тогда вам не составят труда наши обязанности по договору. Вам всего лишь нельзя будет спать с другими женщинами кроме нее. Это подстегнет вас, еще больше показать ей как вы ее любите и, что вы единственная кандидатура достойная быть рядом с ней. Согласны?
– Мне никто не нужен кроме нее! Согласен!
– Амэн. Да будет так. А теперь ступайте и пишите, пишите и еще раз пишите. Вас ждет великое будущее.
– Ты уже придумал свой стих? – нотки голоса были подобны движениям тела, призывные, кошачьи.
– Стих нельзя придумать.
– Но ты же сам сказал, что сейчас пишешь стих. – в голосочке прорезалось непонимание и легкая обида.
Дзинь-дзинь.
– Да. Пишу.
– Но ведь прежде чем его написать, его нужно ведь придумать. Так?
– Не так. Стихи нельзя придумать. Стих это отражение души. Его можно только услышать, а после записать и тем самым дать услышать его другим душам.
– Понапридумываете же вы, люди…
– Ты не поймешь. У тебя нет души.
– А она мне и не нужна. Мне нужно тело и удовольствие. Тело у меня есть, а вот удовольствия нет, – она потерлась плотной грудью о его руку, – неужели я хуже твоих стихов? Неужели тебе не хочется дать мне то, что мне необходимо? Я же так мало прошу. Ты и сам получишь от этого удовольствие.
– Ты просишь слишком многого.
Ночь мирно шла за окнами дома.
Закрутилось все быстро. Стихи писались сами собой, благо для них хватало отчаяния и боли в душе. Незнакомец не подвел, его стихи начали печатать, но самое главное его стихи начали покупать. Его имя гремело с начало на весь Вертепск, потом на всю область, губернию, а потом добралось и до самой столицы. Гонорары росли, чуть ли не ежеминутно, а то и ежесекундно. Поклонники, цветы, овации, полные залы на его выступлениях…
Все это отняло пять лет. Прошло уже пять лет, а боль по ней не проходила.
И вот он решился. Выбрал в гардеробе самый лучший и дорогой костюм, заказал лучшее вино, шоколад и огромный букет цветов и поехал.
Старый захолустная пятиэтажка встретила его обветшалым подъездом и осыпающейся штукатуркой, но это были мелочи жизни, на которые он не стоило обращать внимания. Он увезет ее отсюда. Увезет в великолепный трехэтажный коттедж, выстроенный по самому последнему писку моды, с крытым бассейном, подземным гаражом, бильярдной и мебелью в стиле классицизма. Он окунет ее в роскошь и великолепие, и они будут так же счастливы, как до разрыва. Он влетел, будто на крыльях, на предпоследний этаж и позвонил в дверь. Дверь открыл мальчик лет шести. Светловолосый пригожий мальчуган.
– Вам кого?
– А… Мне бы Алену Николаевну…
– Папа, папа, тут чужой дядя маму спрашивает, – скрылся в квартире мальчик.
Его место занял маленький человечишка в пижамных штанах, серенькой застиранной майке, и в нелепых очках на носу.
– Извините, жены сейчас нет дома, она на работе. Если что-то надо, то я могу передать.
– Жены…, – пронеслось у него в голове, – жены…
Он бросился прочь.
– Так что передать то? – неслось вдогонку.
Бутылка самого дорогого вина была размазана об стену подъезда, а цветы заняли место в вазе, которой для них стала урна.
Он летел на машине… Он собирался разбиться… Но не выходило. Как будто сила с небес поворачивала встречные машины с его пути, а постовые, завидев номера, только отдавали честь.
Жизнь рухнула второй раз. Зачем ему это богатство, эта слава без нее? Жена… Муж в пижамных штанах… Ребенок… Счастливая семейная жизнь… А он дурак пошел на все ради нее, а нужно было всего-навсего надеть пижамные штаны…
– И как поживает твой стих? Ты его уже слышишь?
– Слышу, не мешай.
Он разбил пишущую машинку, сжег стихи, напился до беспамятства и… И ночью опять стал писать. Он не мог уже жить без выплескивания своей души на бумагу. Но теперь он писал другие стихи.
Весна летит, весна идет,
Неся гормонов возбуждение.
В паху томление и жжение,
От пота майка к телу льнет.
О, девка страстная моя,
Весна, как губы твои пухлы.
Ты солнца миг, природы утро.
Весна, как я люблю тебя.
Но, ты проходишь быстро так,
В весеннем платье, по колено,
А дальше жарко-смугло лето.
Идет, шагов чеканя такт.
Идет в купальнике фривольном,
Даря лесов, трав аромат.
Твои духи – прекрасный сад.
Идет, развязано и вольно.