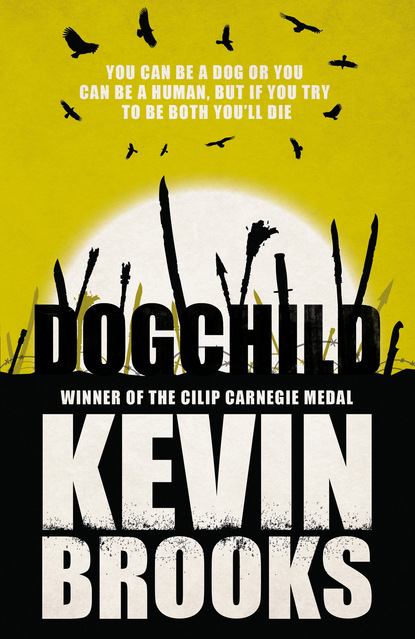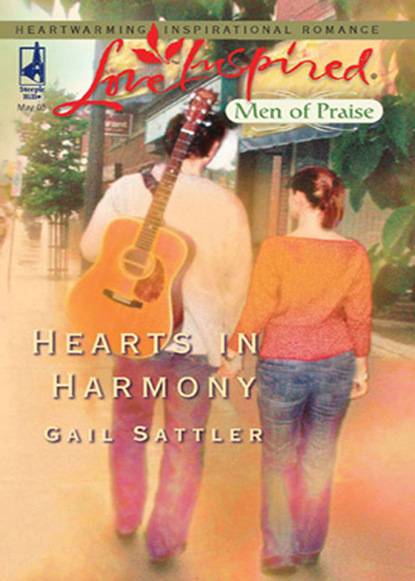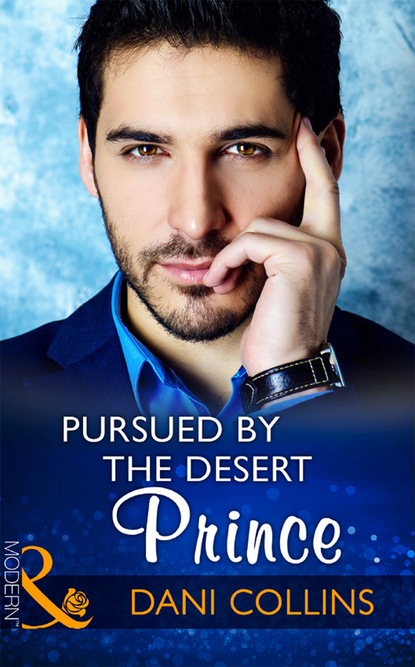- -
- 100%
- +

Глава 1. Последний шанс
Утро начиналось с тишины, которая бывает только перед бойней. На улице над Мидтауном стоял тонкий, влажный свет, и город казался зажатым в ладони – плотный, напряжённый, готовый разорвать кого-нибудь за невнимательное движение. В витринах кафе отражались люди, у которых была куда более простая жизнь, чем у тех, кто собирался в этом здании на девятом этаже. Для них девять этажей – лишь несколько пролётов лестницы. Для Виктории Кросс – девять этажей означали очередной день, который выжмет из неё всё до последней капли.
Она вошла в редакцию с чашкой чёрного кофе в руках и привычной решимостью, которую давно научилась надевать как броню. Пиджак из секонд-хенда сидел на ней идеально – потому что она умела выбирать вещи так, чтобы они выглядели дороже, чем есть на самом деле. Волосы были собраны в небрежный узел, взгляд острый и расчётливый, но плечи едва заметно опустились, будто под тяжестью невидимого груза – где‑то глубоко внутри всё же шевелился страх, упрямый, не поддающийся ни разуму, ни язвительным уколам сарказма.
В редакции UrbanPulse пахло старым бумагой и ещё более старой журналистской амбицией. Сотрудники были погружены в свои дела, а щелчки клавиш звучали, как механические тики времени – каждый удар будто останавливал что-то внутри. Дженнифер Лоу, главный редактор, уже сидела во главе стола в конференц-зале, выражение её лица оставалось неизменным – ровным, словно выточенным из стали, не предназначенным для посторонних чувств и взглядов. Она подняла голову, когда Виктория проходила мимо открытой двери, – и взгляд, брошенный ей вслед, был профессионален до беспощадности.
– У тебя есть минутка? – крикнула Дженнифер, не делая паузы. – Зайди к нам.
Виктория села. Она сжимала кружку в руках так сильно, боясь, что та может выпасть в самый неподходящий момент.
– Какой у нас фидбек по материалу о модной неделе? – спросила Дженнифер, и это был не вопрос, а приговор.
Виктория вдруг вспомнила прошлую ночь в деталях: саму себя в пустой квартире, свет настольной лампы, падающий на клавиатуру под острым углом, и ощущение, будто она выдавливает из себя не текст, а что-то более личное – кровь, нерв, последнюю каплю веры в то, что её слова ещё что-то значат. Расследование растянулось на шестнадцать тысяч знаков: теневая изнанка fashion-индустрии, дизайнеры-мародёры, подвальные фабрики в Бруклине с их потными станками и молчаливыми мигрантами, новая экономика «поп-этикета», где тренды рождались не из вдохновения, а из страха – страха потерять лицо, отстать, исчезнуть из поля зрения. Это был её текст: выверенный, жестокий, с логикой, отточенной до лезвия, и несколькими акцентами, от которых должно было перехватывать дыхание. Она верила, что это её момент – настоящий поворот судьбы, а не просто очередная царапина на теле равнодушного интернета.
– Нормально читается, – сказала она ровно, стараясь не выдать дрожь в голосе. – Но охват немного не такой, как мы рассчитывали.
Дженнифер вздохнула – глубоко, медленно, и этот вздох прозвучал острее любых слов. Возможно, это был единственный случай в мире, когда простой вдох мог резать окружающий воздух, как скальпель.
– «Нормально» не оплачивает наши счета, не продаёт рекламу, не исполняет наши мечты, Виктория, – произнесла она с той методичной холодностью, которая делала её одновременно и блестящим редактором, и невыносимым боссом. – «Нормально» не собирает лайки, не создаёт хайп, не заставляет людей делиться ссылками в три часа ночи, потому что они не могут уснуть после прочитанного.
Она обвела взглядом остальных сидящих за столом, и воздух в комнате словно сгустился, стал вязким и тяжёлым.
– У нас есть замены, – продолжила Дженнифер тоном человека, пересчитывающего складские запасы. – Есть стажёры, голодные и готовые писать за идею и строчку в резюме. Есть ребята из SMM, которые штампуют по пять постов в день и одновременно создают иллюзию бурного обсуждения в комментариях. Но у нас нет повестки. У нас нет того, что заставляет людей остановиться посреди ленты и замереть. У нас нет крови.
Тишина опустилась на комнату, как занавес. Где-то внизу, на улице, резкий звук полицейского свистка вошёл в пространство переговорной, как чей-то пронзительный истошный крик.
– Ты же знаешь, что я всегда ценила твою работу за… – Дженнифер замолчала, подбирая слово, и в этой паузе чувствовалось не раздумье, а скорее раздражение от необходимости подбирать эвфемизмы. – …за смелость. За готовность идти туда, куда другие боятся. Но вот в чём проблема: смелость – это не всегда то, что люди готовы читать. Им не нужны умные вопросы. Им нужны простые ответы. Им нужно видеть чужую ошибку, чужую слабость, чужое падение. Контраст, который можно прожевать за минуту и выплюнуть, переключившись на следующую вкладку.
– Я не хочу обрезать материал ради «хайповых» кликов, – ответила Виктория, и слова вышли не совсем словами – скорее шипением сквозь сжатые зубы. В них было всё сразу: и обида, и упрямство, которым она всегда гордилась, и страх, который она отчаянно пыталась спрятать.
– Ты меня не слышишь, – Дженнифер наклонилась вперёд, и её голос стал тише, но от этого опаснее. – Я не прошу тебя обрезать. Я прошу шлифовать углы так, чтобы они сверкали. Чтобы люди не могли оторваться.
– Так, всё, я поговорю ещё с тобой отдельно, – Дженнифер поставила точку в этом набиравшем силу противостоянии, где уже заведомо были известны победивший и проигравший.
– Слушайте меня все очень внимательно, потому что повторять не буду. Pitchfork готовит большое интервью. С Каем Морганом. Его первое появление после всего этого скандала.
Имя повисло в комнате, как камень. Кай Морган – тот самый, имя которого в этом городе несло одновременно и поклонение, и отвращение. Весь Нью-Йорк несколько месяцев назад наблюдал, как разворачивался спектакль: обвинения в плагиате, грозы в социальных сетях, обвинения бывшей коллеги, которой многие поверили почти без проверок. Группа «Midnight Echoes», на пике которой Кай был солистом и главным лицом, распалась, контракты разорвались. Но люди любят возрождения; они любят драму, а затем и момент, когда можно сказать: «Я знал, что всё это была игра».
– Pitchfork? – кто-то переспросил.
– Да, – подтвердила Дженнифер, словно бросая ещё один вызов. – У них большой ресурс. Они собираются поставить его историю так: «Виноват? Нет. Жертва системы? Возможно». Они готовят платформу для реабилитации. Если они первыми выйдут – мы будем отстанем навсегда. Наша задача – не только сорвать их интервью, но и показать то, на что они бы никогда не пошли. Историю с фактами. Не только эмоциями.
Виктория чувствовала, как кровь в висках заскользила холодной струёй. У неё в голове уже зародился план, как будто кто-то включил проектор и выдал на экран развитие событий: интервью с Каем, разоблачение или опровержение, сенсация, карьерная ракета. Вдруг всё, чего она так долго добивалась, перестало быть миражом и стало вопросом времени.
– Если я доберусь до него первой? – спросила она.
Дженнифер посмотрела на неё с ухмылкой – не злорадной, но и не доброжелательной. В её взгляде читалось что-то вроде азарта, почти спортивного интереса: посмотрим, на что ты способна, когда загнана в угол.
– Ты уверена, что сможешь? – В её голосе не было насмешки, только холодное любопытство. – Он закрыт. Его никто не видит месяцами. Его телефон молчит, как могила. Он окружён молчанием, юристами и стеной правовой защиты толщиной в миллион долларов.
Виктория почувствовала, как внутри что-то сжалось – не от страха, а от злости. Злости на эту игру, на необходимость доказывать снова и снова, что она чего-то стоит. Но под злостью жила и другая эмоция, более опасная: отчаянное желание зацепиться за эту возможность, потому что других может и не быть.
– У меня есть контакты, – сказала она тихо, стараясь, чтобы голос звучал увереннее, чем она себя ощущала. – Я могу попробовать выйти на Маркуса. Его старый звукорежиссёр. Он работает в Red Hook, в той студии на набережной. Мы брали у него интервью пару лет назад, когда делали материал о независимых продюсерах. Он не любит журналистов – вообще никого не любит, если честно, – но с ним можно поговорить… по-человечески.
Дженнифер откинулась на спинку кресла, и в этом движении чувствовалось удовлетворение. Не от того, что Виктория нашла зацепку, а от того, что крючок был заброшен и теперь оставалось только подсекать. Она знала, что Виктория пойдёт на это. Знала, что гордость не позволит ей отступить. И это знание грело её больше, чем любая чашка кофе.
– У тебя две недели, – произнесла она ровно, будто объявляла приговор. – И помни одну простую вещь: я не плачу за смелость. Я не плачу за красивые слова и журналистскую этику. Я плачу за популярность. За цифры. За материал, который взорвёт ленты. Принеси мне это – или не возвращайся вообще.
В её голосе не было угрозы. Только констатация факта. И от этого было ещё страшнее.
Виктория кивнула – коротко, почти механически – и внутри неё столкнулись две силы: решимость вспыхнула, как спичка в темноте, но тут же на неё легла тяжесть усталости, придавливая, как мокрая шинель. Она уже знала ответ. Знала его ещё до того, как Дженнифер закончила говорить. Она пойдёт на это. Пойдёт, даже если придётся договариваться с собственной совестью на языке компромиссов и оправданий. Потому что другой путь – медленное растворение в воздухе редакции, превращение в призрачное имя где-то в пыльных архивах журнала, в сноску, которую никто не читает – был хуже любого провала.
Она вышла из переговорной, и шум редакции обрушился на неё, как волна после отлива: стук клавиатур, обрывки телефонных разговоров, чей-то смех у кофемашины – всё это вернулось разом, слишком громко, слишком живо. А в голове билась одна мысль, настойчивая, как метроном: две недели. Две недели – это не срок. Это ультиматум, упакованный в вежливую формулировку.
Виктория знала правила игры. Если она промахнётся – не просто упустит шанс. Она потеряет место, которое последние годы удерживала с таким же напряжением, с каким альпинист держится за последний выступ скалы. Дженнифер не сказала этого вслух – не было нужды. Слова висели в воздухе невысказанные, но абсолютно ясные: если ты не справишься, найдутся другие. Моложе. Быстрее. Голоднее. Дешевле. И никто даже не вспомнит твоё имя через месяц.
Она прошла по коридору, и её ноги несли её автоматически, как корабль по знакомой реке. Несколько минут она уделила на своё рабочим моментам, пробежала взглядом почту, ответила на пару сообщений, и всё это было делом рук, выполненным машинально – чтобы не думать о том, что сейчас решается её судьба.
В кафе внизу на первом этаже здания, перед тем как покинуть офис, она сделала короткую попытку быть собой: купила маленький круассан, поставила телефон в беззвучный режим и на секунду закрыла глаза. В этой секунде она представила, как встречается с Каем, как он открывает ей дверь в свою уязвимость, а она – холодная и расчётливая – копается в ней, чтобы вынуть правду и преподнести её на серебряном блюде. Мысли тут же метнулись туда, куда ей не хотелось их пускать – в ту зону, где личное и профессиональное переплетались, как корни старых деревьев. Она всегда держала эти миры раздельно, как два отсека на тонущем корабле: если один даст течь, второй ещё продержится. Это был именно тот случай, которого она избегала годами – когда нельзя провести черту между работой и жизнью, когда одно неизбежно затопит другое.
И цена ошибки становилась другой – не профессиональной, измеримой в цифрах и строчках резюме, а человеческой. Той, что не восстанавливается. Если она промахнётся, пострадает не только карьера. Рухнет что-то более хрупкое – доверие, связи, может быть, последние остатки веры в то, что она ещё способна отличить правду от сделки.
Две отведённые ей недели начались сегодня.
Когда она вышла на улицу, город ударил её по лицу – резким запахом бензина и тем особым шафл-ритмом Нью-Йорка из микса шагов, мелодий звонящих телефонов, хлопков дверцей такси, бормотания уличного проповедника. Она не стала медлить. Медлить – значит сомневаться, а сомнения сейчас были роскошью, которую она не могла себе позволить.
Первым делом – Маркус. Он был не просто контактом, он был ключом к запертой двери. Если Маркус даст имя менеджера, если согласится хотя бы намекнуть, если хоть одна ниточка потянется к Каю Моргану – тогда у неё появится шанс. Призрачный, но шанс.
Она достала телефон и набрала к счастью сохранённый когда-то номер, который был сейчас важнее, чем пароль от сейфа с последними сбережениями. Гудки. Один. Два. Три.
На другом конце провода щёлкнуло, и голос, который она услышала, был именно таким, каким она его помнила: грубоватым, с хрипотцой от тысяч сигарет и бессонных студийных ночей, когда рассвет застаёт тебя за пультом, а не в постели. Маркус Блейн никогда не был человеком, который легко отдаёт что-то ценное. Информация для него – валюта, и он не из тех, кто раздаёт её направо и налево.
– Да, – бросил он вместо приветствия, и в этом одном слоге было всё: усталость, настороженность и лёгкое раздражение от неожиданного звонка.
– Маркус? – сказала она сразу, не представляясь. Было не время на ритуалы. – Ты помнишь меня? Мы делали ту серию про независимые студии.
Пауза. Потом сухой смешок.
– Помню, – сказал он. – Ты та, что любит смотреть в микрофон и говорить громче, чем нужно. Что тебе надо?
– Кай Морган, – сказала она. – Ты с ним работал. Мне нужно знать, как до него достучаться. Pitchfork готовит интервью. У нас две недели, чтобы получить его комментарий и показать всю картину. Ты можешь помочь?
На другом конце провода послышалось задумчивое дыхание. И затем: – Кай? Чёрт, детка, с ним сейчас мало кто разговаривает. Он убрался из паблика. Говорят, у него был разрыв в отношениях, и он ушёл в себя. Его менеджер не берёт звонков от журналистов. Большую часть инфы обрубили сверху.
– А «The Nowhere»? – спросила Виктория, и в её голосе прозвучала нота, которую она не планировала – что-то между надеждой и отчаянием. Она вспоминала слухи о том баре в Ист-Вилледже, полуподвальной дыре с облупленной вывеской, куда Кай якобы захаживал в те времена, когда ещё существовали случайные встречи, живая музыка и спонтанность – до того, как его жизнь превратилась в систему юридической защиты.
Маркус хмыкнул – коротко, без радости, звук человека, который слышал этот вопрос раньше и знает, к чему он ведёт.
– Говорят, он ходил туда, – произнёс он медленно, взвешивая каждое слово. – Людям, которые ходят в «The Nowhere», нравится одно – ощущение, что их не узнают. Что там можно просто быть, а не играть роль. Но это всего лишь слухи, Вик. Сплетни барменов и завсегдатаев. – Он помолчал, и в этой паузе слышалось предупреждение. – И, честно говоря, мне не особо хочется лезть в это дерьмо. Это его личное пространство, понимаешь? Последнее, что у него осталось. Ты точно уверена, что тебе это надо?
Виктория почувствовала, как пальцы сильнее сжали телефон – так, что костяшки побелели. Внутри боролись две правды: одна говорила «это работа», другая шептала «это наглость».
– Мне нужно знать, где он, – сказала она тише, чем планировала, но твёрже, чем ожидала от себя. – И если у тебя есть хоть малейший шанс свести нас – я приму это как подарок. Обещаю, что не приду туда хищником с диктофоном и списком вопросов. Мне нужен разговор. Настоящий. Человеческий. – Она сделала вдох, и следующие слова дались ей с трудом, потому что она не была уверена, что верит им сама. – И если он не будет готов говорить – я уйду. Честное слово. Без статьи, без скандала. Просто уйду.
Наконец он вздохнул – устало, почти обречённо.
– Слушай, – произнёс он, и в его голосе появилась осторожность человека, идущего по минному полю. – У меня нет никаких гарантий. Всё, что я знаю, – это слухи, обрывки разговоров. Но есть один парень, он иногда пересекается с людьми из круга Кая. Не близкими – так, орбита. «The Nowhere» – это не выдумка, он там реально бывает. – Пауза, затем голос стал жёстче, почти предупреждающим. – Но если ты всё-таки решишь попробовать – забудь про обычные методы. Никакого журналистского подхода. Никаких блокнотов на столе, никаких диктофонов в кармане. И даже не думай записывать без его ведома – он на это реагирует не просто остро, он на это реагирует болезненно. У него паранойя уровня, когда ты начинаешь проверять, не следят ли за тобой из розеток.
Виктория кивнула, хотя он не мог этого видеть, и в горле перехватило – не от страха, а от понимания, что дверь приоткрылась. Совсем чуть-чуть, но приоткрылась.
– Я понимаю, – ответила Виктория. – Спасибо, Маркус.
– И Вик? – голос Маркуса потеплел, как будто он делал ей одолжение. – Береги себя. Эти истории любят ломать тех, кто их пишет. Особенно если ты слишком ей увлечёшься в процессе.
Она улыбнулась и, прежде чем успела подумать, слова прозвучали на автомате: – В журналистике нет места сентиментальности.
«Но», – подумала она, когда положила трубку, – «в жизни, похоже, место сентиментальности всё ещё есть. И именно она делает её такой непредсказуемой».
Она вернулась в офис, и, проходя мимо витрины, задержала взгляд на собственном отражении. В глазах было что-то, чего она раньше не замечала: не только усталость, но и решимость, которая пахла свежий лёд в бокале. Две недели. Одно из двух – запомниться или исчезнуть.
Она села за стол и уже в уме начала выстраивать план действий: «The Nowhere», работники бара, бывшие участники группы, менеджеры, педантичный подход к информации – и, если повезёт, первая встреча. Если нет – поражение и долгий поиск работы, где ей придётся улыбаться и притворяться, что всё ещё любит тот мир, который помог ей стать собой.
На экране компьютера появилось окно календаря. Она поставила пометку: «Две недели. Кай Морган. Эксклюзив». Потом открыла новый документ и написала заглавие. Под ним – пустота, ждущая, чтобы её заполнили слова.
И пока город за окном продолжал свою неустанную жизнь – сирены скорой, гул метро под асфальтом, крики уличных торговцев, смешанные с музыкой из открытых окон, – Виктория почувствовала то, что когда-то было её наркотиком, её религией: азарт охоты. Не за добычей, не за сенсацией ради сенсации, а за историей. За правдой, спрятанной под слоями лжи и молчания. За шансом, который может превратить её имя из строчки на сайте издательства в заголовок, который будут цитировать.
Только теперь ставки изменились. Стоимость этого шанса измерялась не деньгами и не статусом – она измерялась минутами, которые не спишь, ночами, когда совесть не даёт покоя, и той незаметной эрозией души, которая происходит каждый раз, когда ты выбираешь работу вместо человека. И чем меньше минут будет оставаться, тем безжалостнее будет торг.
Виктория ещё не знала – не могла знать, – насколько высокой на самом деле окажется цена. Какую часть себя придётся оставить на алтаре этой статьи. Она думала, что готова заплатить любую. Но никто никогда не готов по-настоящему – пока счёт не выставлен, когда отступать уже поздно.
Глава 2. Первая ложь
Виктория сидела на скамейке в парке, держа телефон в ладони и нервно крутя пальцами кофейный стакан. Две недели – это много и мало одновременно. Она уже составила список всех контактов, которые могли привести к Каю. Маркус хоть и был ключом, но он дал только крошечный шанс: «The Nowhere». Малоизвестный бар в Ист-Вилледже, который, по слухам, посещали некоторые знаменитости, кто хотел, как будто раствориться в городе, стать на какое-то время невидимым. И Кай – один из таких.
Номер менеджера она нашла на полузаброшенном сайте группы Кая – между устаревшими датами туров и ссылками на давно удалённые интервью. Контакт висел там, словно забытый, никем не обновляемый, но всё ещё действующий – как заржавевший ключ, который, возможно, откроет ещё одну нужную дверь.
Виктория набрала номер, мысленно прокручивая несколько заготовленных версий разговора. Она отбросила формальный тон профессионального журналиста – холодный, дистанцированный, вооружённый вопросами как скальпелями. Вместо этого – совершенно другая стратегия: мягкость, почти дружелюбие, с лёгким налётом искреннего интереса, который был не совсем игрой, но и не совсем правдой.
– Добрый день, – начала она ровно, стараясь звучать уверенно, но не напористо, профессионально, но не хищно. – Меня зовут Виктория Кросс, я журналист из UrbanPulse. Я работаю над материалом о феномене кэнсел-культуры – не как об очередном скандале, а как о системе, которая умеет разрушать репутации за считанные часы, но никогда не даёт шанса их восстановить. – Она сделала паузу, давая словам осесть. – Мне кажется важным давать слово не только критикам и обвинителям, но и тем, кого эта система ломает. И я хотела бы поговорить с Каем Морганом. Его точка зрения – не просто важна для моего материала. Она необходима, чтобы картина была полной.
На другом конце линии повисла тишина – короткая, оценивающая, – а затем менеджер хмыкнул. Звук был красноречивее слов: она просила о невозможном, и он это знал.
– Кай не даёт интервью, – сказал он сухо, без эмоций, как человек, повторяющий заученную формулу. – Никому. Ни при каких обстоятельствах. Он не доверяет журналистам после того, что произошло. И, если честно, я бы не советовал даже пытаться. Вы потратите время впустую.
Виктория сжала телефон сильнее, чувствуя, как внутри натягивается струна – ещё чуть-чуть, и она лопнет или зазвучит.
– Я понимаю его недоверие, – ответила она спокойно, вкладывая в голос столько убедительности, сколько могла выжать из себя. – Я понимаю больше, чем вы думаете. Но именно поэтому он должен получить возможность высказаться. Не через журналистику-хищника, которая ищет только крови и кликов, а через честное исследование. – Пауза, и следующие слова она произнесла медленнее, словно клятву. – Я могу гарантировать полную конфиденциальность процесса. Никаких записей без его согласия. Никаких манипуляций с контекстом. Только его история – если он захочет её рассказать. И только ради одного: дать ему шанс вернуть контроль над собственным нарративом.
Менеджер замолчал – не ответил, не возразил, даже не попрощался. Просто тишина, затем резкий щелчок отбоя. Разговор окончен, дверь захлопнута.
Виктория опустила телефон и выдохнула – долго, медленно, как после удара под дых. Провал. Чистый, беспощадный провал.
Но через несколько часов – когда она уже сидела в полутёмной квартире с остывшим кофе и открытым ноутбуком, пытаясь придумать план Б, которого не существовало, – телефон на столе завибрировал. Сообщение. Неизвестный номер.
Текст был коротким – две строчки, без приветствия, без подписи, без лишних слов:
«Бар «The Nowhere», сегодня в восемь. Не записывать, не журналистика. Просто разговор.»
Виктория взглянула на экран, перечитывая сообщение, будто оно могло измениться. Сердце колотилось где-то в горле. Это было не сообщение – это был вызов. – Что? Кто? Но до боли знакомое уже название «The Nowhere» всё быстро расставило на свои места.
Она не знала, что именно сработало. Честность в её голосе? Та лёгкая дерзость, с которой она говорила о его праве на собственную историю? Или просто уверенность – почти актёрская, выверенная, – с которой она произносила каждое слово, будто читала заранее написанный сценарий, а не импровизировала на грани отчаяния?
Может, дело было вообще не в ней. Может, он просто устал молчать. Устал от того, что его историю рассказывают другие – люди, которые не знали его, не видели его жизнь изнутри, но с лёгкостью выносили приговоры.
Виктория улыбнулась – едва заметно, почти против воли – и внутри неё одновременно зашевелились несколько чувств, как змеи в одной корзине: азарт охотника, увидевшего след; напряжение перед прыжком в неизвестность; и лёгкая, въедливая тревога, которая нашёптывала, что ставки слишком высоки. Впервые за долгое время её цель стала чем-то большим, чем просто работа. И она знала – с той пугающей ясностью, которая приходит перед решающим шагом, – что если этот разговор пойдёт не так, всё рухнет. Не начавшись. Без права на повтор.
Вечером улицы Ист-Вилледжа утонули в тусклом, почти интимном свете уличных фонарей. Виктория шла по узким тротуарам, огибая группки курильщиков у баров, мимо витрин винтажных магазинов и татуировочных салонов. В воздухе висел густой коктейль запахов: кофе из круглосуточных кафе, дым от грилей азиатских ресторанов, сладковатый аромат свежей выпечки из пекарен, всё это смешанное с влажным асфальтом после недавнего дождя.
Бар «The Nowhere» она нашла почти случайно – он не кричал о себе, не приглашал. Вывеска была настолько выцветшей, что буквы едва читались, словно время методично стирало их, как ластиком. Дверь – тяжёлая, деревянная, исцарапанная и потемневшая от времени – скрипнула, когда Виктория толкнула её. Над головой тихо звякнул маленький медный колокольчик – не громко, но достаточно, чтобы несколько голов повернулись в её сторону.