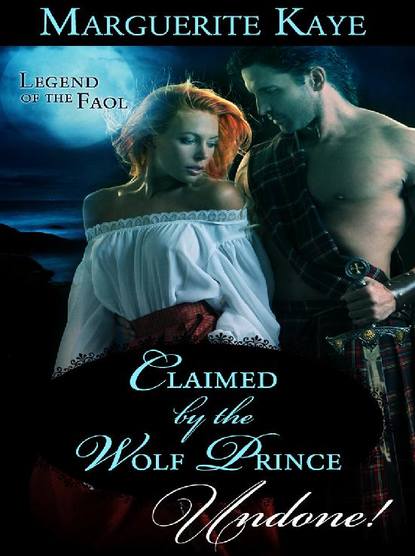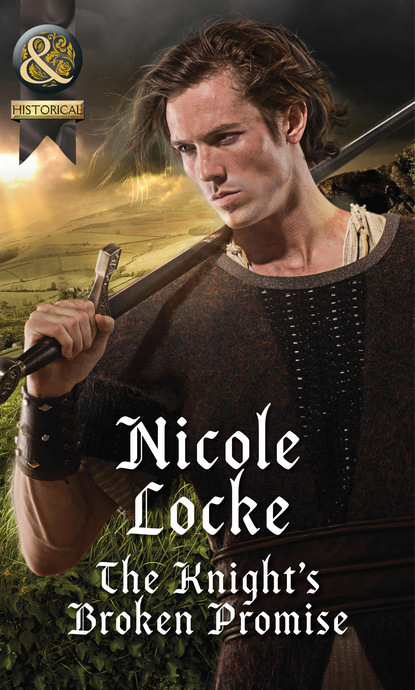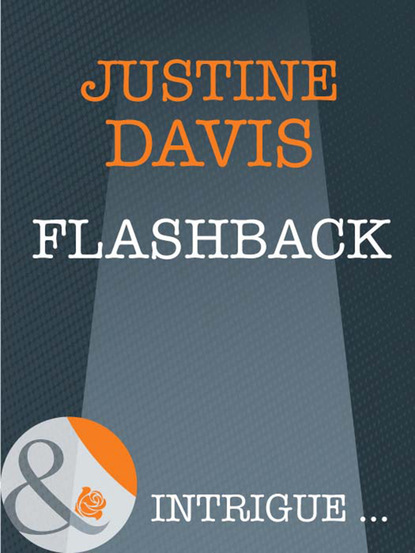- -
- 100%
- +
Внутри было полутёмно, пропитано запахом старого дерева, пива и той особенной меланхолией, которая живёт только в барах, повидавших слишком много историй. Она заглянула в глубину зала, и взгляд сразу зацепился за фигуру в дальнем углу.
Кай Морган сидел за угловым столиком – спиной к стене, лицом к двери, классическая поза человека, который не хочет, чтобы его застали врасплох. Плечи слегка сгорбленные, как у того, кто устал нести на себе чужие взгляды. Взгляд – внимательный, проникающий, но с глубоким налётом усталости и той закрытости, которая приходит, когда ты слишком долго защищаешься от мира. Он не улыбался. Не приглашал. Просто смотрел.
И всё же его присутствие заполняло пространство – не громко, не агрессивно, а тихо, как гравитация. Он ничего не требовал от окружающих. Только одного: уважения к его тишине.
– Виктория, – сказал он сухо, когда она подошла. – Ты пришла вовремя.
– Да, – ответила она, сдерживая сердцебиение, которое не подчинялось рассудку. – Я хочу просто поговорить. Без записей, без сенсаций. Только Вы и Ваши мысли.
Он смотрел ей прямо в глаза, – будто сканировал каждую деталь: как она держит руки, куда смотрят глаза, есть ли в её позе та фальшивая расслабленность, которой грешат все журналисты, изображающие дружелюбие. Проверял, честна ли она. Или хотя бы способна ли на честность.
Наконец он кивнул – коротко, почти незаметно.
– Ладно, – произнёс он низким голосом, в котором не было ни тепла, ни враждебности. Только усталая настороженность. – Садись. Но помни одну вещь: это не интервью. Я проверю. Сдержишь слово – может, поговорим по-настоящему. Что-то опубликуешь – забудь, что у тебя есть мой номер.
Они сели друг напротив друга за столик, покрытый кольцами от бесчисленных стаканов – память о тысячах выпитых здесь разговоров. Первый час прошёл в неловкой, почти осязаемой тишине, которую разбавлял только тихий джаз из потрёпанной колонки за барной стойкой – старые записи Чета Бейкера, печальные и мягкие, как разговор с призраком о том, что уже не вернуть. Труба пела о потерянной любви, а контрабас вторил ей низким, утробным стоном.
Виктория не доставала телефон, не раскрывала блокнот, не делала ни одного жеста, который мог бы напомнить о том, кто она и зачем здесь на самом деле. Она просто сидела, слушала, наблюдала, впитывала детали с той цепкостью, которая приходит годами профессии: как он держит стакан с виски двумя пальцами, но не прикасается к нему губами, будто это не напиток, а реквизит, щит от неловкости; как его пальцы барабанят по столу в такт музыке – нервно, но ритмично, выдавая музыканта даже в моменты молчания; как он смотрит не на неё, а чуть мимо, словно ожидая, что если сфокусируется прямо, она окажется миражом и исчезнет, оставив его опять наедине с пустотой.
Она задавала вопросы осторожно, как сапёр, разминирующий поле, где каждый неверный шаг может всё взорвать: общие, нейтральные, не раскрывающие истинного намерения. О музыке – как она менялась, какие альбомы его сформировали, есть ли ещё в этом городе места, где можно услышать что-то стоящее. О городе – о закрывающихся клубах и джентрификации, о том, как Ист-Вилледж превращается из богемного убежища в декорацию для туристов с селфи-палками. О том, каким был Нью-Йорк до того, как его купили, упаковали и превратили в туристический аттракцион для миллионеров, ищущих аутентичности в фотогеничных кафе.
Кай отвечал скупо, односложно, но постепенно – очень постепенно – его плечи чуть расслабились, и между фразами стали появляться паузы не напряжённые, а задумчивые, будто он взвешивал, стоит ли открывать ещё одну дверь.
Внезапно он прервал её посреди фразы.
– Ты действительно хочешь восстановить мою репутацию? – Вопрос прозвучал резко, без предупреждения, и его взгляд наконец впился в её лицо – прямо, насквозь, будто он пытался прочитать ответ раньше, чем она его произнесёт.
Виктория не отвела глаз. Не смутилась. Она знала, что сейчас решается всё.
– Я хочу дать платформу для правды, – сказала она мягко, но с железной решимостью, которая пробивалась сквозь каждое слово. – Не для сенсации. Не для того, чтобы набрать просмотры на Вашей боли. Для понимания. Чтобы люди увидели человека, а не мема.
Он замолчал, откинулся на спинку стула, и на несколько секунд его лицо стало нечитаемым, как закрытая книга. Но потом – едва заметно – в его глазах появилась искорка. Не доверие. Ещё не доверие. Но интерес. Осторожный, настороженный, но живой.
– Ладно, – произнёс он наконец тихо, почти шёпотом, как будто боялся, что кто-то подслушивает. – Во-первых перейдём на «ты», а во-вторых, если ты действительно хочешь это сделать – нам нужно договориться о правилах. Я открываюсь постепенно. По кусочкам. Ты не записываешь ни слова без моего разрешения. Ты не публикуешь ничего, пока я не прочитаю финальную версию и не скажу «да». И если хоть раз почувствую, что ты играешь со мной в игру – всё заканчивается. Без объяснений, без второго шанса.
Он помолчал, затем добавил ещё тише:
– Меня уже однажды предали. Дважды не выживу.
– Согласна, – кивнула Виктория, и голос её прозвучал ровно, убедительно, без малейшей фальши.
Но внутри, где-то в той части сознания, куда она старалась не заглядывать слишком часто, притаилась маленькая, острая тайна: на подходе к бару она активировала диктофон на телефоне, спрятанном в кармане куртки. Экран погашен, звук отключён, но работающий микрофон телефона безжалостно пожирает каждое слово, каждый вздох, каждую паузу. «Страховка, – сказала она себе, и это слово прозвучало почти честно. – Просто страховка. Если он передумает, если откажется, если попытается отречься от своих слов – у меня будет доказательство».
Но где-то глубже, в том месте, где живёт совесть, шептал другой голос:
«Это предательство. Ты обещала. Ты посмотрела ему в глаза и соврала».
«Это моя работа, – парировала она беззвучно. – Это журналистика».
«Нет, – ответила тишина внутри. – Это может стоить тебе всего. И не карьеры. Чего-то большего».
Кай смотрел на неё долго – так, словно пытался заглянуть сквозь кожу, сквозь слова, прямо в ту часть души, где прячется правда. И Виктория почувствовала, как её привычный контроль над ситуацией – тот профессиональный панцирь, который она носила годами, – начинает трещать, соскальзывать. Его взгляд был не обвиняющим, не подозрительным – он был просто видящим. И это было хуже любых обвинений.
На мгновение она ощутила с пугающей ясностью, что эта встреча – не просто шанс для статьи, не очередная ступенька в карьере. Это испытание. Её самой. Того, кем она стала. И того, кем ещё может быть – если не перейдёт черту окончательно.
– Значит, мы договорились, – сказал он наконец впервые расслабившись, хотя настороженность из глаз не ушла полностью. – Но помни одну вещь, Виктория. Я буду проверять тебя. Каждый раз, каждым словом. И в тот момент, когда почувствую ложь – всё закончится.
Она кивнула, не давая себе говорить. В горле стоял комок – не от страха разоблачения, а от чего-то более тяжёлого. От понимания, что она уже солгала. Что запись идёт. Что первый камень лавины уже сорвался.
Виктория сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить сердце, колотящееся где-то в рёбрах.
Это был её первый шаг к Каю Моргану. Первый настоящий контакт с человеком, а не с образом на экране.
И одновременно – первый шаг в ловушку, которую она сама себе приготовила. Ловушку, из которой может не быть выхода, когда он узнает правду.
Если узнает, – прошептало что-то внутри.
Когда узнает, – поправила совесть.
Глава 3. Под маской
Осенний Нью-Йорк обволакивал Викторию мягким, почти медовым светом фонарей, когда она шла по Хай-Лайн рядом с Каем. Старая железнодорожная эстакада, превращённая в парк, парила над Челси, и отсюда город казался одновременно близким и далёким – россыпь окон, мерцающих в сумерках, гул машин внизу, приглушённый расстоянием до белого шума.
Ветер – прохладный, с привкусом реки и приближающейся зимы – играл с её волосами, путал пряди, заставляя её снова и снова убирать их за ухо. Под ногами шуршали листья, сухие и ломкие, рыжие и багряные, устилающие дорожку, как ковёр из чужих воспоминаний. Каждый шаг звучал громче, чем должен был, и это создавало странное ощущение, будто весь город – с его тысячами окон, балконов и крыш – замер и наблюдает за ними. Двое людей, идущих в тишине, окружённые шумом, но изолированные от него невидимым пузырём.
Виктория держала блокнот в руке – по привычке, как талисман, – но на этот раз он оставался закрытым. Мысли были не о статьях и дедлайнах. Почти не о них. Где-то на периферии сознания журналистский инстинкт продолжал фиксировать детали – как он идёт, чуть ссутулившись, руки в карманах, взгляд устремлён вдаль; как его дыхание становится видимым в холодном воздухе; как он молчит, но это молчание не тяжёлое, а просто… существующее.
Но большая часть её – та, которую она обычно держала под замком, – была здесь. С ним. В этом моменте, который не укладывался в рамки интервью.
– Ты ведь начинал в подвалах Бруклина? – спросила она осторожно, стараясь не звучать как обычный журналист.
Кай усмехнулся, взгляд скользнул по верхушкам зданий, где отражался закат. – Да. В подвалах, где запах пота смешивался с запахом старых колонок. CBGB, помнишь? Там, где стены дышали историей? Я играл на дешёвых гитарах, которых хватало на один концерт. А публика – двадцать человек, максимум. Но мы верили, что каждый аккорд имеет значение.
Он говорил тихо, почти интимно, и Виктория ловила каждое слово, чувствуя, как за маской холодного и закрытого человека открывается настоящая страсть. Она делала заметки, не отрывая взгляда от его лица: «Студийные записи с подвала, первые тексты, те, что мы потеряли». Его голос был ровный, но в нем сквозила трепетная ностальгия.
– И когда всё взлетело? – осторожно спросила она, делая вид, что это просто разговор о музыке.
– Когда мы впервые попали на радиостанцию WNYU, – ответил он, и голос его стал тише, будто он говорил не с ней, а с собственной памятью. – Это был… переломный момент. Люди вдруг начали узнавать нас на улицах. Останавливали, просили автографы, цитировали тексты песен. Концерты перестали быть камерными – залы стали полными. И всё это казалось нереальным. Сном, из которого боишься проснуться.
Он замолчал, глядя на огни города, мерцающие внизу, как упавшие звёзды.
– Но даже тогда, – продолжил он медленно, подбирая слова, – когда казалось, что весь мир у наших ног и готов слушать каждое слово… я чувствовал пустоту. – Он усмехнулся горько. – Люди приходили не за музыкой. Они не слушали нас – они ждали шоу. Сенсацию. Историю, которую можно пересказать друзьям. Им нужен был образ, персонаж, маска. А я… – Его челюсть напряглась. – Я просто хотел, чтобы слушали песни. Не меня. Не мою биографию, не мои скандалы, не то, с кем я сплю или что пью. Просто музыку.
Виктория кивнула, механически делая пометки в блокноте – короткие, отрывочные фразы, больше для вида, чем по необходимости. Но внутри росло странное, тревожное чувство – как будто почва под ногами медленно смещалась, меняя ландшафт. Она постепенно переставала видеть в нём только объект для статьи, материал для расследования, средство спасти карьеру.
В каждом его слове, в каждой паузе между ними сквозила уязвимость – настоящая, сырая, та, которую невозможно сфальсифицировать или разыграть. Не актёрская поза «раненого артиста», а что-то более глубокое. Усталость человека, который слишком долго был всем для всех и разучился быть собой.
И это пугало её. Потому что чем больше она видела в нём человека, тем сложнее становилось помнить, зачем она здесь. Тем тяжелее был телефон в кармане, продолжающий записывать каждое слово.
На следующий день они встретились в небольшом кафе в Сохо – одном из тех мест, которые ещё не превратились в селфи-декорацию, с потёртыми деревянными столами, случайным набором стульев и запахом свежемолотого кофе, который въедался в одежду. Виктория пришла раньше, заняла столик у окна и наблюдала за улицей, пока не увидела его силуэт в дверях – всё такой же сутулый, настороженный, будто входил не в кафе, а на допрос.
Они заказали кофе, и Виктория наблюдала, как Кай методично расставляет чашки, выравнивает их края параллельно краю стола, медленно насыпает сахар – два пакетика, ровно, без спешки. Этот ритуал, простой до абсурдности, казался якорем, помогающим ему удерживать контроль над внутренним хаосом, который она уже начинала различать в его взгляде, в том, как напрягаются пальцы, когда он думает, что она не смотрит.
– Я хочу показать тебе кое-что, – сказал он внезапно, и достал из потёртой холщовой сумки несколько старых фотографий и помятых листков, исписанных от руки. – Это было давно. В другой жизни. Я почти забыл эти дни. Но, может быть, тебе стоит их увидеть. Чтобы понять, кем я был до того, как всё рухнуло.
Виктория взяла фотографии осторожно, будто они могли рассыпаться от прикосновения. Концерты в переполненных клубах, где сцена была на уровне пола, а зрители стояли так плотно, что воздуха не хватало. Студийные записи – чёрно-белые кадры, на которых молодой Кай склонился над гитарой, лицо сосредоточенное, почти религиозное. Первые автографы, нацарапанные на салфетках и обложках дисков. Жизнь, которая казалась бесконечной, пока не кончилась в один момент.
Она записывала детали, не забывая задавать вопросы – нейтральные, осторожные, не выдающие того, что в её голове уже складывался не просто портрет, а целая архитектура: человек, который был не просто «звездой», выброшенной с Олимпа, а творцом, пережившим предательство, падение и то особое одиночество, которое приходит, когда толпа аплодирует твоей маске, но никто не знает твоего лица.
Параллельно – когда возвращалась домой поздно вечером, когда город за окном начинал дышать по-другому, тише и темнее, когда Кай, думая, что она уже выключила ноутбук и забыла о работе, засыпал со смутным чувством облегчения, – Виктория проводила собственное расследование. Методичное. Холодное. Профессиональное. То, чему её учили, то, за что ей платили.
Она сидела в полутёмной квартире, освещённая только синим светом экрана, и делала звонки. Бывшим членам группы, чьи номера она выискивала в архивах из пожелтевших музыкальных журналов, из полузабытых форумов фанатов, где люди до сих пор спорили о том, кто виноват в распаде группы. Разговоры с промоутерами – теми, кто помнил времена, когда Кай был восходящей звездой, а не падшим идолом, – и были готовы говорить за бокал хорошего вина, обещание анонимности и шанс наконец рассказать свою версию. Бармены клубов на Лоуэр-Ист-Сайд, где Кай когда-то был своим человеком, мог прийти в три ночи и его не выгоняли, а теперь превратился в легенду, о которой с придыханием рассказывают новичкам, показывая выцветшую фотографию на стене.
И там – в этих разговорах, в долгих паузах, когда собеседник решал, говорить ли правду или удобную ложь, в том, что произносилось вполголоса, с оглядкой через плечо, будто стены подслушивают, – начали появляться несостыковки. Сначала маленькие, почти незаметные. Потом всё больше. Трещины в той истории, которую Кай рассказывал с такой болью и убедительностью, что она почти поверила.
Один бывший участник группы – гитарист по имени Дэнни, с выцветшей татуировкой на предплечье и неизлечимой горечью в голосе, которая пропитала каждое слово, – утверждал, что некоторые песни из первого альбома, те самые, которые принесли Каю славу и контракт с лейблом, были написаны не им одним. Что это была коллективная работа: кто-то придумывал риффы, кто-то дописывал тексты, кто-то менял аранжировки до тех пор, пока песня не зазвучала. Но когда пришло время подписывать контракты и регистрировать авторские права, Кай настоял, чтобы в графе стояло только одно имя. Его. «Он сказал, что это для простоты, для продвижения, – рассказывал Дэнни, и в его голосе слышалась незажившая рана. – А потом, когда деньги пошли, вдруг оказалось, что мы были просто сессионными музыкантами. Наёмниками».
Промоутер из Бруклина – седой мужчина с сигарой, которую он не курил, а просто держал в пальцах, как атрибут старых времён, и циничным прищуром человека, видевшего слишком много взлётов и падений, – намекнул, что в процессе работы над последним альбомом, тем самым, который так и не вышел, были конфликты. Серьёзные. С криками, которые слышали через стены студии. С угрозами уйти, бросить всё, разорвать контракты. С разбитой аппаратурой и счетами за ремонт, которые кто-то должен был оплачивать. «Кай был… сложным, – сказал он, выбирая слова осторожно. – Талантливым, да, бесспорно. Но сложным. Когда что-то шло не так, как он хотел, он мог сорваться. И иногда… иногда люди страдали. Не физически, понимаешь. Но морально. Он умел ранить словами так, что шрамы оставались надолго».
Виктория записывала всё. Сохраняла аудиофайлы, делала транскрипции, сверяла даты и факты, строила хронологию событий в таблице Excel, где каждая строка была свидетельством, а каждый столбец – версией правды. И с каждым новым разговором картина становилась не чётче, а запутаннее, как фотография, на которую навели резкость, но обнаружили, что на заднем плане происходит что-то совсем другое.
Две версии реальности существовали параллельно, как два слоя одной фотографии: та, которую рассказывал Кай – искренне, с болью в глазах, с дрожью в голосе, когда вспоминал о предательстве и одиночестве, – и та, которую нашёптывали тени его прошлого, люди, оставшиеся за кадром его истории, те, чьи имена не попали в титры.
Она не знала – честно не знала, хотя это признание пугало её профессионально, – какая из них правда. Или, может быть, обе были правдой – просто рассказанными с разных сторон баррикады, под разными углами зрения. Правда жертвы и правда тех, кто считал себя жертвами жертвы.
И с каждым днём, проведённым с Каем, с каждым его откровением, которое она записывала на скрытый диктофон, груз этого знания становился тяжелее. Потому что она начинала понимать: когда придёт время писать статью, ей придётся выбрать. Чью правду рассказать. И этот выбор разрушит чью-то жизнь. Может быть, его. Может быть, её собственную.
– Это странно, – подумала Виктория, сидя в своей студии поздно вечером. – Он говорит одно, а факты слегка отличаются.
Но одновременно она чувствовала, как растёт странная связь между ними: в его взгляде мелькала доверчивость, в её действиях – хитрость. Виктория понимала, что каждый их совместный шаг – игра на грани, и чем ближе она к правде, тем глубже погружается в эмоциональный водоворот.
На прогулках по Хай-Лайн, среди оживлённых прохожих с кофейными стаканчиками и наушниками, туристов, застывших у перил с камерами, и тихих уголков, где дикая зелень пробивалась сквозь бетон и металл, напоминая, что природа всегда возвращается, – Виктория чувствовала, как Кай открывается. Медленно. Мучительно медленно. Капля за каплей, как вода, точащая камень.
Он рассказывал о первых концертах – не о тех, что попали в журналы, а о самых ранних, когда они играли в подвале на Кенал-стрит перед двадцатью пьяными студентами, и он так боялся сцены, что его тошнило перед каждым выходом. О том, как влюблялся в музыку – не в успех, не в деньги, а именно в звук, в момент, когда аккорды складываются в нечто большее, чем сочетание нот. О том, как влюблялся в людей – в участников группы, в девушек с первых рядов, в барменов, которые наливали бесплатно, как доверялся продюсерам, обещавшим золотые горы. И о том, как предательство друзей и коллег, когда оно пришло – внезапно и тихо, как нож в спину в тёмном переулке, – оставило в нём шрам, который не зарастал, а только углублялся со временем.
– Иногда мне кажется, – сказал он однажды, остановившись у перил и глядя на огни Манхэттена, раскинувшиеся внизу, как упавшая галактика, – что музыка – это единственное, что ещё может меня спасти. – Он замолчал, и в профиль его лицо казалось высеченным из камня, только глаза живые, слишком живые, горящие тем огнём, который может и согреть, и сжечь. – Но даже она… даже она не всегда помогает. Иногда я сижу с гитарой часами, и ничего не выходит. Только тишина. И я не знаю, что хуже: когда тебя ненавидят за то, чего ты не делал, или когда ты больше не можешь делать то, за что тебя когда-то любили.
Виктория молчала, держа блокнот на коленях, но ручка застыла над страницей. Она не записывала – просто слушала. Каждое его слово оставляло отпечаток не на бумаге, а где-то глубже, в той части сознания, где живут не факты, а эмоции. И это пугало её. Профессионально. Лично.
Она знала – знала с той холодной ясностью, которая приходит в три часа ночи, когда невозможно солгать самой себе, – что эти встречи одновременно её шанс и её проклятие. Шанс на статью, которая может всё изменить: её карьеру, её репутацию, её место в этом жестоком мире, где ты либо взлетаешь, либо исчезаешь. Но они же становились испытанием её собственной человечности, её чувственности. Каждый раз, когда он так открывался, каждый раз, когда его голос дрожал, рассказывая о том, что причиняло боль, – она чувствовала, как внутри что-то ломается. Та стена, которую она выстроила между собой и героями своих статей. Профессиональная дистанция, без которой журналист превращается в соучастника, а не наблюдателя.
Потому что видеть Кая таким – уязвимым, настоящим, без масок и защитных механизмов, – было опасно. Опасно для её привычного контроля над ситуацией. Опасно для того образа себя, который она носила, как броню: циничная, умная, непоколебимая Виктория Кросс, которая может написать о ком угодно, не дрогнув.
А сейчас она дрожала. И это её пугало больше, чем любой дедлайн, любая угроза потерять работу.
Потому что если она начнёт чувствовать – по-настоящему чувствовать, а не имитировать эмпатию ради доверия, – она потеряет главное: способность сделать то, что должна. Написать правду. Даже если эта правда его уничтожит.
Но даже когда слова Кая были трогательны – когда его голос дрожал, рассказывая о предательстве, когда глаза становились влажными от воспоминаний, – Виктория замечала расхождения. Маленькие. Почти незаметные. Детали, которые не сходились. В его рассказе о записи первого альбома не хватало имён людей, которых её источники называли ключевыми. Даты концертов не совпадали с афишами, которые она нашла в архивах. История разрыва с лейблом звучала одним образом из его уст, и совершенно иначе – со слов людей, которые там были.
И это подталкивало её к мысли, которая не давала покоя, повторяясь, как навязчивая мелодия: «Не всё, что он говорит, – правда. Но каждое слово – искренне. В той или иной степени. Он верит в свою версию. Или научился в неё верить».
Может, память – не более чем редактор, переписывающий прошлое так, чтобы в нём можно было выжить? Может, он не лжёт – просто рассказывает ту правду, которая позволяет ему смотреть на себя в зеркало?
Вечером, сидя на диване в своей тесной студии – с окнами, выходящими на кирпичную стену соседнего здания, и холодильником, который гудел слишком громко, – Виктория просматривала записи. Голос Кая звучал из динамиков ноутбука, и она слушала его снова и снова, останавливая на паузах, перематывая назад, пытаясь поймать что-то между строк. Интонацию. Фальшь. Правду.
Она открыла параллельно свои заметки – показания других людей, статьи, старые интервью, – и начала сопоставлять. Как детектив, раскладывающий улики на полу. Или как прокурор, готовящий обвинение.
И где-то между третьим прослушиванием и второй чашкой остывшего кофе до неё дошло с холодной ясностью: она стала частью его мира. Не наблюдателем. Не просто журналистом с диктофоном. Частью. Он пустил её внутрь, показал раны, которые не показывал никому. А она… она всё записывала. Каталогизировала. Анализировала.
Исследователем она осталась. Всегда оставалась. Даже когда он говорил о боли, её рука машинально тянулась к ручке. Даже когда его голос ломался, часть её мозга отмечала: «Хорошая цитата. Запомнить».
И чем дальше она погружалась в его историю, в его жизнь, в тот лабиринт правды и самообмана, который он построил вокруг себя, тем яснее понимала: игра только начинается. То, что она собрала, – лишь первый акт. Дальше будет сложнее. Больнее. Опаснее.
В её сердце одновременно жили два ощущения, враждующие, несовместимые, но неразделимые: желание довериться – по-настоящему, без оглядки, без профессиональной дистанции – и холодная осторожность, инстинкт выживания, нашёптывающий, что каждый шаг может оказаться в пропасть. Страх разрушить всё одним неверным словом, одним неловким вопросом. Или, что ещё хуже, разрушить себя – ту часть, которая ещё помнила, что значит быть человеком, а не машиной по добыче историй.
И под маской дружбы – лёгкой, почти непринуждённой, которую она надевала каждый раз, встречаясь с ним, прогуливаясь среди огней Сохо и вдоль Хай-Лайн, делясь кофе и молчанием, – Виктория готовила свой следующий ход. Обдумывала. Взвешивала. Калибровала.