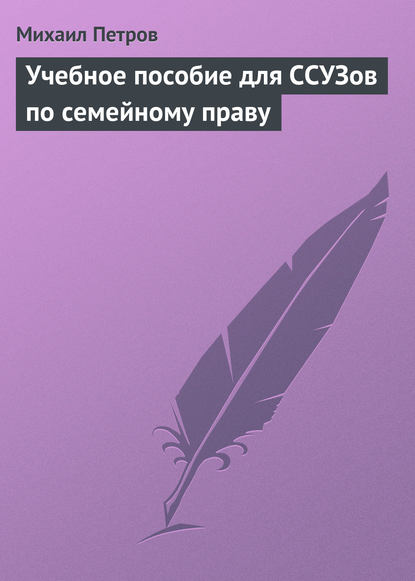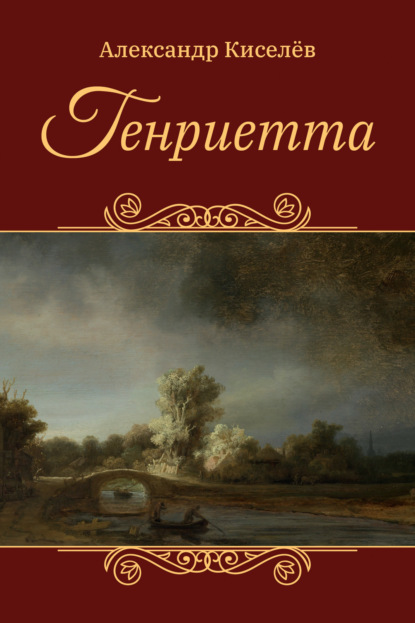- -
- 100%
- +
И где-то там, среди строк будущей статьи, среди громких заголовков и цитат, вырванных из контекста, среди цифр просмотров и лайков, – пряталась цена. Вопрос был только в том, чьё сердце будет заплачено за её успех.
Его. Или её собственное.
К утру она так и не нашла ответа. Только усталость, въевшуюся в кости. И страх – холодный, липкий, – что правильного ответа, может быть, вообще не существует.
Глава 5. Запретная черта
Приглашение пришло утром, когда Виктория ещё не до конца проснулась – уведомление высветилось на экране телефона, лежащего на тумбочке. Она потянулась за ним, щурясь от яркости, и увидела сообщение от Кая. Короткое, без обычных прелюдий и вежливых формальностей:
«Можешь зайти сегодня ко мне? Мне нужно показать тебе кое-что. Понимаю, что это странная просьба, но… это важно.»
Виктория смотрела на экран несколько минут, перечитывая эти строки, пытаясь уловить подтекст. Что он хочет показать? Почему дома, а не в нейтральном месте? И почему сейчас, когда внутри неё всё ещё бушевал шторм после сообщения Дженнифер?
Её первым импульсом было отказаться. Профессиональная дистанция – та хрупкая граница, которую она и так уже перешла слишком много раз. Идти к нему домой, в его личное пространство, – это ещё один шаг в сторону, из которой может не быть возврата.
Она начала набирать ответ: «Может, лучше в том же кафе?» – но пальцы застыли над клавиатурой.
А что, если это важно? Что, если он готов открыть что-то, что действительно изменит всю картину? Доказательства, документы, старые записи – то, что может превратить его рассказ из субъективной исповеди, которую легко оспорить, в неопровержимую правду с датами, фактами, свидетельствами?
Профессиональная часть её сознания уже просчитывала варианты: «Если у него есть переписка с Эшли, черновики с метаданными, контракты с подписями – это меняет всё. Это уже не он-сказала-она-сказала. Это материал, который невозможно игнорировать».
Но тут же, тише и осторожнее, прозвучал другой голос – человеческий, неудобный: «А что, если он просто нуждается в ком-то? Не в журналисте с блокнотом. В человеке, который выслушает, не осудив и не записывая каждое слово для будущей статьи. Может, он просто устал быть один».
Виктория сжала телефон сильнее, чувствуя, как внутри разворачивается знакомая война.
«Но я не могу быть просто человеком, – подумала она с горечью, которая поднялась горлом, как желчь. – Даже если захочу. У меня в кармане лежит включённый диктофон. У меня есть дедлайн, который не сдвинется ни на день. Я не его подруга, пришедшая поддержать. Я журналист, который его использует. Который берёт его боль и превращает её в контент. В товар».
Эта мысль обожгла – не метафорически, а почти физически, как кислота, разъедающая что-то внутри. Остатки совести? Иллюзии о себе? Ту часть, которая ещё помнила, зачем она когда-то стала журналистом – не ради кликов и карьеры, а ради правды?
Но она всё равно набрала – быстро, почти яростно, не давая себе времени на сомнения:
«Хорошо. Какой адрес?»
Пауза. Палец завис над кнопкой отправки.
Последний шанс отступить. Последний момент, когда можно было сказать «нет», сохранить хоть какую-то дистанцию, хоть какую-то честность.
Она нажала «отправить», прежде чем успела передумать.
Сообщение ушло. Синяя галочка. Прочитано.
И пути назад больше не было.
Дождь моросил над Манхэттеном – не ливень, а та мелкая, настойчивая морось, что проникает под одежду и въедается в кости, – будто город устал скрывать свои чувства и решил поплакать тихо, без свидетелей. Серый вечер был пропитан каким-то странным электричеством, тем самым, что витает в воздухе между людьми, слишком долго пытающимися убедить себя и друг друга, что ничего не чувствуют, что всё под контролем, что это просто работа.
Виктория стояла у входа в его дом – старое здание из красного кирпича, с потёками времени на фасаде, как слёзы на старом лице, с чугунной пожарной лестницей, медленно ржавеющей под годами дождей, – и вода капала с козырька её куртки, стекала по лицу, смешиваясь с чем-то, что могло быть дождём, а могло и нет.
Впервые за долгое время – может, за годы – она не знала, чего боится больше: войти в эту дверь, переступить этот порог и окончательно потерять себя, или развернуться и уйти прочь, пока ещё не поздно, пока ещё можно сделать вид, что ни о чём не договаривались.
Её рука зависла над кнопкой домофона. Пальцы дрожали – от холода или от страха, она не могла понять. Сердце стучало слишком громко, так громко, что казалось, его слышно на всю улицу, оно выдаёт её, кричит правду, которую она отчаянно пыталась спрятать.
«Это просто работа, – повторяла она про себя, как заклинание, как молитву неверующего. – Просто ещё одна встреча. Ещё одно интервью. Ничего не изменилось. Ты профессионал. Ты знаешь, что делаешь».
Но всё изменилось.
Она перестала быть просто наблюдателем. Она стала участником его истории – и не в хорошем смысле. Где-то по дороге, между первой встречей в баре и этой дверью, граница размылась. Она переходит черту, которую обещала себе никогда не переходить.
И она это знала. Знала с той мучительной ясностью, которая приходит, когда уже поздно что-то менять.
Виктория закрыла глаза на секунду – последняя попытка собраться, – сделала глубокий вдох, и влажный осенний воздух обжёг лёгкие холодом и сыростью. Затем, прежде чем страх успел взять верх, нажала кнопку.
Звонок пронзительно зазвенел где-то в глубине здания, эхом отозвался в пустом подъезде, а потом затих, оставив после себя только шум дождя и далёкий гул города.
Тишина.
Секунда. Две. Пять.
Виктория стояла под дождём, чувствуя, как вода просачивается сквозь ткань куртки, холодит плечи, стекает по шее. И в этом ожидании – мучительном, растянутом, как струна, – она вдруг поняла, что не знает, на что надеется больше.
Что он откроет – и она войдёт, и всё, что должно случиться, случится, без права на отступление?
Или что он не откроет – не услышит звонок, передумает, заснул, ушёл, – и она получит последний шанс развернуться и убежать, пока ещё можно сделать вид, что этого вечера и не должно было быть?
Сердце билось в висках. Дождь шумел. Город дышал вокруг неё – равнодушный, огромный, полный своих историй, среди которых её маленькая драма была лишь одной из тысяч.
А потом – щелчок замка.
Он открыл дверь почти сразу – так быстро, будто стоял за ней и ждал именно этой секунды. Без привычной ироничной полуулыбки, без защитной маски бравады, которую обычно надевал, встречаясь с ней на публике. Просто стоял босиком в потёртых джинсах и серой футболке, с растрёпанными волосами и усталыми глазами, в которых, несмотря ни на что, теплился какой-то странный покой. Не счастье. Не облегчение. Просто принятие – будто он наконец перестал бороться с чем-то внутри себя.
– Спасибо, что пришла, – сказал он тихо, почти шёпотом, отступая в сторону и жестом приглашая войти. В его голосе не было ни иронии, ни игры – только усталая благодарность. – Я знаю, что это… нестандартно. Попросить тебя приехать сюда. Но мне правда нужно, чтобы ты это увидела. Не в кафе, не на нейтральной территории. Здесь.
Виктория кивнула – не доверяя себе говорить – и переступила порог, чувствуя, как капли дождя падают с её куртки на деревянный пол. Дверь закрылась за её спиной с тихим, окончательным щелчком, и этот звук отозвался где-то в груди. Точка невозврата.
– Заходи, не стесняйся, – добавил он негромко, забирая её промокшую куртку. – Кофе? Чай? Что-нибудь покрепче?
– Кофе, – выдохнула она, оглядываясь.
Внутри было неожиданно уютно – не тот хаос разбитых бутылок и беспорядка, который она, если честно, где-то в глубине ожидала от рок-музыканта с бурным прошлым и разрушенной репутацией. Просторный лофт с высокими потолками, открытой планировкой и большими окнами, за которыми стекал дождь, пах деревом – старым, выдержанным, – свежемолотым кофе и винилом – тем особенным запахом пластинок, который невозможно описать, но который узнаёшь сразу.
По стенам висели гитары – не для красоты, а для жизни. Каждая потёртая, исцарапанная, с историей, написанной в сколах лака и заменённых струнах. Акустические и электрические, винтажные и современные. Каждая – как кусок прожитой жизни, свидетель ночей в студиях, концертов, моментов вдохновения и отчаяния.
На полке у окна – фотографии в простых рамках: сцены, залитые светом прожекторов; силуэты музыкантов, склонившихся над инструментами; руки, тянущиеся из толпы к микрофону, как к спасению; размытые лица в экстазе музыки. Жизнь, которая когда-то была.
Но между всем этим – между гитарами и фотографиями, между воспоминаниями и артефактами успеха – висела тишина. Плотная. Осязаемая. Слишком долгая и тяжёлая, чтобы быть просто паузой между песнями.
Это была тишина человека, который перестал создавать. Или разучился. Или боялся снова попробовать.
Виктория почувствовала, как внутри что-то сжалось – не от жалости, а от понимания. Она видела не музей карьеры. Она видела мавзолей мечты.
– Не думал, что ты согласишься прийти, – произнёс Кай, исчезая на минуту за барной стойкой и возвращаясь с двумя чашками дымящегося кофе. Запах был крепкий, горький, согревающий.
– Ты пригласил, – ответила она, принимая чашку, и улыбнулась чуть-чуть – неуверенно, стараясь не смотреть на его руки. На сильные пальцы с мозолями от струн, на запястья, на то, как уверенно и крепко он держит чашки – без лишних жестов, без показной деликатности, просто по-мужски, что выдаёт человека, привыкшего контролировать каждое движение на сцене и в жизни.
Он сел напротив, на потёртый кожаный диван, поставил свой кофе на низкий столик, заваленный нотными тетрадями и помятыми листами с текстами. Несколько секунд они просто молчали, слушая, как дождь барабанит по окнам – ритмично, монотонно, успокаивающе. Город за стеклом растворялся в сумерках и воде.
– Ты ведь знаешь, – начал он наконец, опустив взгляд, будто пытаясь найти слова, которые никогда не давались легко, – я не пускаю людей сюда. Почти никогда. Годами. Это… последнее место, где я ещё могу быть собой. Не играть роль. Не защищаться. Просто существовать.
Виктория обхватила тёплую чашку обеими руками, пытаясь согреть пальцы, которые вдруг стали ледяными, несмотря на духоту в лофте.
– Почему я? – Вопрос вырвался тихо, почти шёпотом, и в её голосе прозвучало не кокетство, не ложная скромность, а искреннее, почти детское удивление. Она действительно не понимала.
Он медленно поднял глаза – не сразу, давая себе время решиться, – и посмотрел прямо на неё. Долго. Пронзительно. Без той привычной защитной маски усталой иронии, без барьеров, которые обычно выстраивал между собой и миром.
И что-то внутри неё дрогнуло. Неуместно. Непрофессионально. Опасно.
– Не знаю, – сказал он с той редкой, обезоруживающей честностью, когда человек признаёт, что сам не понимает своих мотивов. – Может, потому что ты не смотришь на меня, как все остальные. Не как на монстра, которого нужно избегать и обсуждать шёпотом. Не как на павшего героя, которого надо спасать и реабилитировать. Не как на жертву системы, которую следует пожалеть и забыть. – Он помолчал, подбирая слова. – Просто… по-другому. Как на человека, наверное.
Виктория почувствовала, как внутри что-то резко сжалось – острый, почти физический укол. Вины. Стыда. И чего-то ещё – тёплого, пугающего, того, что категорически нельзя было чувствовать. Она отчаянно гнала эту мысль прочь, как отмахиваются от назойливой осы. «Нет. Это просто эмпатия. Профессиональная близость. Синдром заложника наоборот. Что угодно, только не это».
– А как я смотрю? – спросила она, хотя боялась ответа. Боялась услышать правду, которая разрушит последние остатки профессиональной дистанции. Боялась ещё больше – что он назовёт то, что она уже начинала чувствовать и отчаянно пыталась не признавать.
Кай не ответил сразу. Он смотрел на неё так, будто пытался сформулировать что-то важное, что нельзя испортить неточным словом. И в этой паузе Виктория заметила – впервые действительно заметила, а не просто зафиксировала для статьи, – как падает свет на его лицо. Линию скул. Усталость в уголках глаз. То, как он прикусывает губу, когда думает.
«Останови это. Прямо сейчас. Ты здесь не для этого».
– Как будто видишь, – произнёс он наконец просто, без украшений. – Не образ из заголовков. Не легенду, которую пересказывают на форумах фанатов. Не скандал, разобранный на цитаты в твиттере. – Его голос стал тише, почти интимным, и Виктория почувствовала, как учащается пульс. – Меня. Того, кто здесь, сейчас. Со всем дерьмом, ошибками и страхами. Живого.
Он сказал это спокойно, без пафоса и театральности, но эти слова прошли сквозь неё, как электрический разряд – внезапный, мощный, оставляющий после себя жжение и онемение одновременно.
Потому что он был прав. И потому что он так ужасно, катастрофически ошибался.
Она действительно видела его. И это было проблемой. Потому что чем больше она видела – не персонажа для статьи, а человека с его болью, юмором, талантом, уязвимостью, – тем сильнее становилось то чувство, которое она отчаянно давила в себе каждый раз, когда оно всплывало. Тёплое. Притягивающее. Совершенно недопустимое.
«Это не влюблённость. Не может быть. Это просто… близость от долгих разговоров. Эффект общей тайны. Химия мозга, не больше. Пройдёт, когда статья будет написана».
Но где-то в груди, в том месте, где живут честные ответы, шептал тихий голос: «Ты врёшь себе. И ты это знаешь».
А ещё она предавала то, что видела, превращая это в материал, в контент, в товар. И он не знал об этом. Доверял ей. А она записывала каждое слово на диктофон, спрятанный в кармане куртки.
Виктория отвела взгляд первой, не в силах больше выдерживать эту честность – его и невозможность собственной.
Они говорили долго – пили остывающий кофе, а дождь за окном то усиливался, то стихал, как дыхание. Снова о музыке и том, что она значила для него раньше, когда ещё не превратилась в индустрию и товар. О том, что значит потерять себя – не в один момент, а постепенно, по кусочкам, так, что не замечаешь, пока не обернёшься и не увидишь, что от тебя почти ничего не осталось. О страхе проснуться однажды и понять, что всё, что ты строил годами, – карьера, репутация, творчество, – теперь принадлежит кому-то другому, а у тебя остались только обломки и обвинения.
Кай рассказывал о песнях, которые так и не были дописаны – мелодии, застрявшие на полпути между замыслом и воплощением. О риффах, записанных в три ночи на диктофон телефона, когда вдохновение приходило внезапно и исчезало так же быстро, не дожидаясь утра. О строчках, что звучали только в его голове, потому что он боялся их записать, боялся, что они окажутся недостаточно хороши или, что ещё хуже, что кто-то снова их украдёт.
Виктория, как обычно, внимательно слушала, иногда задавала вопросы – осторожные, не журналистские, а человеческие, – делая вид перед самой собой, что всё это лишь материал для статьи, профессиональное интервью в неформальной обстановке. Что она контролирует ситуацию. Что она здесь по работе.
Но внутри всё уже смещалось. Тектонические плиты её сознания двигались, меняя привычный ландшафт. Границы размывались, как акварель под дождём. Не было уже «объекта интервью» и «журналистки». Не было профессиональной дистанции и холодного контроля, на которых она строила карьеру.
Была только она – живая, дрожащая, чувствующая то, что чувствовать было категорически нельзя. Опасно. Непрофессионально. Разрушительно для всего, что она пыталась построить.
Она ловила себя на том, что смотрит на его руки слишком долго. На то, как он проводит пальцами по волосам, когда задумывается. На изгиб его губ, когда он говорит о музыке – единственное, что заставляет его лицо светлеть. Она замечала детали, которые не нужны для статьи: шрам на запястье, потёртость джинсов на коленях, то, как меняется его голос, когда он говорит о прошлом – становится глубже, тише, как будто каждое слово причиняет боль.
«Останови это, – приказывала она себе. – Ты что, влюбляешься в него? Идиотка! И это худшее, что можно придумать. Худшее для вас обоих».
Но сердце не слушало доводов рассудка. Оно билось чаще каждый раз, когда их взгляды встречались. Оно замирало, когда он улыбался – редко, но настояще. И оно разрывалось пополам от осознания того, что она предаёт этого человека. Прямо сейчас. Каждую секунду.
Потому что где-то в кармане её куртки, небрежно брошенной на спинку стула, телефон продолжал хладнокровно записывать. Безмолвный свидетель. Предатель, которого она сама принесла с собой в его дом, в его последнее убежище.
Записи работала исправно, пожирая гигабайты памяти, фиксируя каждое слово, каждую паузу, каждое откровение. И с каждой минутой груз этого предательства становился невыносимее.
«Скажи ему. Прямо сейчас. Признайся про запись. Дай ему выбор».
Но она молчала. Потому что боялась. Не его реакции – хотя и её тоже. Боялась потерять это. Эти часы. Эту близость. Его голос. Его доверие. То чувство, которое расцветало в груди, несмотря ни на что, вопреки здравому смыслу и профессиональной этике.
Она влюблялась. Медленно, неотвратимо, катастрофически. В человека, которого использовала. В историю, которую собиралась превратить в товар.
И это было самым жестоким предательством из всех возможных.
Он поднялся с дивана – движение плавное, естественное – и подошёл к стене, где висели гитары. Снял с крюка старую акустическую – потёртую, с царапинами и наклейками концертных площадок, каждая из которых была маленькой историей.
– Хочешь услышать то, чего никто не слышал? – спросил он, не оборачиваясь, и в его голосе была уязвимость, которую невозможно подделать.
Виктория кивнула, не доверяя себе говорить. Горло сжалось. Глаза предательски защипало.
Потому что она понимала: то, что он сейчас сделает, – это не для статьи. Это для неё. Для человека, которого он увидел в ней.
Кай сел на деревянный табурет у окна – там, где дождь скользил по стеклу тонкими серебряными линиями, – устроил гитару на коленях и начал играть. Медленно. Без слов. Только музыка, чистая и обнажённая, как нерв.
Каждая нота звучала будто признание. Будто он разговаривал с ней на языке, который существовал раньше слов – древнем, честном, безжалостном. Мелодия была простой, почти минималистичной, но в ней жила такая боль и такая нежность одновременно, что Виктория почувствовала, как перехватывает дыхание.
Она стояла в нескольких шагах от него, прислонившись к стене, не решаясь пошевелиться, будто любое движение могло разрушить эту хрупкую магию. Смотрела на его руки – на то, как пальцы скользят по струнам, уверенно и нежно, извлекая звуки, которые проникали под кожу, в кровь, в самое сердце. И ей стало страшно – потому что казалось, будто он прикасается не к гитаре, а к ней. К тем местам в душе, куда она никого не пускала.
Песня оборвалась внезапно – не закончилась, а именно оборвалась, как фраза, которую не решились договорить. Кай опустил голову, и влажные волосы упали на лицо. Улыбнулся – криво, с горечью.
– Вот и всё, – сказал он тихо. – Незаконченная песня для незаконченной жизни.
– Это красиво, – выдохнула Виктория, и голос её прозвучал хрипло, будто она долго молчала.
– Это неправда, – парировал он, поднимая глаза. – Но спасибо, что соврала. Приятно.
Он аккуратно поставил гитару к стене и поднялся с табурета. Посмотрел на неё – долго, пристально, изучающе. Слишком долго и слишком глубоко.
– Ты ведь меня обманываешь, – произнёс он наконец тихо, почти шёпотом, но в этих словах не было обвинения. Только констатация факта и что-то похожее на печаль.
Виктория замерла, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Он знает? Про запись? Про статью? Про то, зачем она здесь на самом деле?
– Почему ты так решил? – Её голос прозвучал ровнее, чем она ожидала.
– Потому что ты слушаешь не так, как журналисты, – ответил он, медленно делая шаг к ней. – Журналисты обычно ждут цитат. Готовых фраз, которые можно вставить в статью. А ты слушаешь смысл. То, что между слов. Ты слушаешь так, будто тебе не всё равно.
Она отвела взгляд, не в силах больше выдерживать этот пронзительный взгляд.
– Может, я просто… люблю хорошие истории, – пробормотала она слабо.
– А может, – он сделал ещё шаг, и теперь между ними осталось совсем мало пространства, – ты боишься рассказать собственную историю. Что если ты остановишься и посмотришь на себя честно – там окажется пустота.
Эта фраза попала точно в цель, как нож между рёбер. Виктория вздрогнула, почувствовав, как внутри что-то болезненно сжалось.
Тишина между ними натянулась, как струна той самой гитары. Воздух стал плотнее, тяжелее, заряженный тем электричеством, что возникает, когда два человека стоят слишком близко и понимают, что следующая секунда изменит всё.
Кофе давно остыл. Дождь за окном усилился, барабаня по стеклу. Свет в лофте стал мягче, интимнее, превращая пространство в кокон, отделённый от остального мира.
Кай подошёл ближе – ещё один шаг, последний, – почти вплотную. Виктория чувствовала тепло его тела, запах – смесь кофе, дождя, старого дерева гитары и чего-то его собственного, неуловимого. Его дыхание касалось её щеки – тёплое, неровное.
Её сердце билось так громко, что казалось, он должен его слышать.
– Если я поцелую тебя, – произнёс он медленно, глядя ей прямо в глаза, и в его голосе была та редкая, обезоруживающая честность, когда человек не прячется за словами, – это разрушит всё, да?
Не вопрос. Констатация. Предупреждение. Последний шанс отступить.
Виктория не могла дышать. Не могла думать. Внутри бушевал шторм – желание и страх, притяжение и паника, «да» и «нет», сплетённые так туго, что их невозможно разделить.
Она должна была отстраниться. Должна была сказать что-то профессиональное, остановить это, пока не стало слишком поздно. Вспомнить про статью, про дедлайн, про запись в кармане куртки.
Но вместо этого она стояла, не двигаясь, глядя на его губы, и понимала, что уже приняла решение. Неправильное. Катастрофическое. Неизбежное.
– Да, – прошептала она. – Разрушит.
– Хорошо, – выдохнул он. – Тогда мы хотя бы честны.
Виктория почувствовала, как дрожь пробегает по спине.
– Да.
– Тогда почему ты не уходишь?
Она не ответила словами. Просто шагнула навстречу – один шаг, который разделил её жизнь на «до» и «после».
И всё рухнуло.
Поцелуй был не как в фильмах – не плавный, не осторожный, не романтичный. Он был голодным, отчаянным, взрывным, как будто двое слишком долго сдерживали дыхание под водой и наконец вынырнули на поверхность, хватая воздух жадно, не заботясь о том, как это выглядит. Его руки – горячие, сильные, уверенные – обвили её талию, притянули ближе, так близко, что между их телами не осталось пространства. Её пальцы вцепились в ткань его футболки, сминая её, используя как якорь, чтобы не утонуть в этом ощущении.
Время перестало существовать. Мир за окном – с его дождём, огнями, миллионами жизней – исчез, стёрся, перестал иметь значение. Были только они двое – две правды, перепутавшиеся в одну ложь. Два одиночества, сплетённые в иллюзию близости.
Его губы были тёплыми, настойчивыми, требовательными. Она чувствовала вкус кофе и чего-то горького – может, сожалений, может, страха. Его дыхание сбивалось, руки скользили по её спине, талии, оставляя за собой след жара. Она отвечала с той же яростью, с тем же отчаянием – будто это был последний шанс почувствовать что-то настоящее, прежде чем всё снова превратится в работу, сделку, предательство.
Он остановился первым – резко, внезапно, как человек, который спохватился на краю пропасти. Их дыхание смешалось – рваное, неровное, слишком громкое в тишине лофта. Тишина звенела, будто каждая пылинка в воздухе знала, что стала свидетелем чего-то запретного, чего не должно было случиться.
Кай не отпустил её. Просто замер, прижимая лбом к её лбу, закрыв глаза, будто пытался собрать себя по кусочкам. Затем медленно, почти благоговейно, провёл ладонью по её щеке – нежно, словно боялся, что она растворится, окажется миражом, плодом его одинокого воображения.
– Прости, – прошептал он, но не отступил ни на шаг. – Я не должен был… Это неправильно. Ты здесь по работе.
– Не говори, – перебила она тихо, прижимая пальцы к его губам. – Просто не говори ничего. Пожалуйста.
Потому что если он продолжит – если они начнут анализировать, объяснять, рационализировать, – магия рассеется. Останется только холодная правда: она журналист, он – её объект, и между ними не может быть ничего, кроме сделки и предательства.
Она сама потянулась к нему снова – уже без сомнений, без журналистской маски, которую носила так долго, что забыла, какая она без неё. Её ладони нашли его шею, ключицу, линию челюсти. Она чувствовала запах его кожи – смесь гитарного лака, древесины, кофе и чего-то его собственного, неповторимого – нота дождя, пепла и чего-то тёплого, живого. Он пах как дом, которого у неё никогда не было.