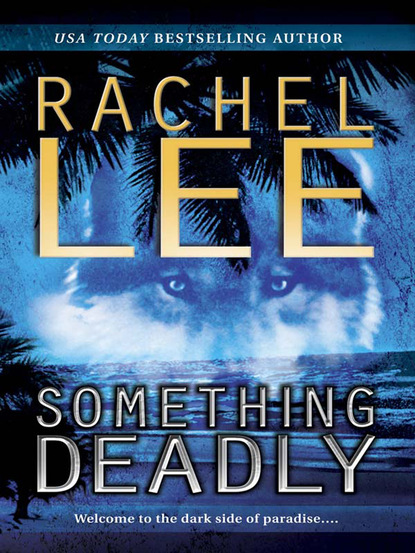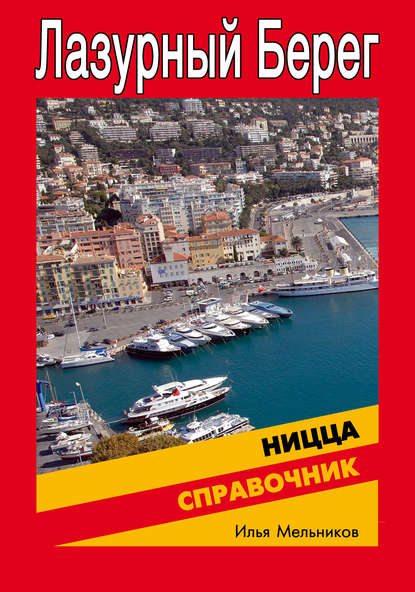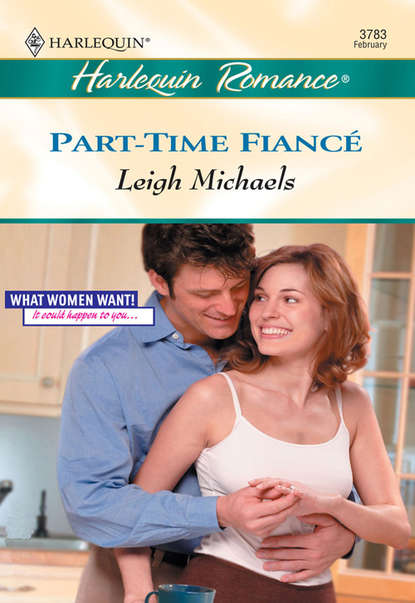- -
- 100%
- +

Глава 1. Ночной дозор
Тишина в залах музея после закрытия была не пустотой, а веществом. Густым, тяжёлым, наполненным шёпотом веков и окаменевшими вздохами истории. Именно это Каи ценил больше всего. Здесь его одиночество становилось не проклятием, а естественным состоянием среды, таким же осязаемым, как бархат на музейных скамьях и холод мраморных полов. В этом мире, застывшем между прошлым и настоящим, он был не чужаком, а просто ещё одним артефактом, тщательно catalogизированным и забытым в безмолвной витрине вечности.
Его звали Каи. И он был чудовищем, которое скрупулёзно, с почти что религиозным трепетом, каталогизировало других чудовищ – за стеклянными витринами, в виде чучел и бронзовых изваяний. В этой работе была горькая, доведённая до автоматизма ирония: существо, рождённое для того, чтобы скрываться, посвятило жизнь тому, чтобы выставлять напоказ тех, кто когда-то, как и он, должен был оставаться невидимым. Он был тюремщиком в царстве узников, и эта мысль, отточенная годами, уже не вызывала в нём ничего, кроме лёгкой, фоновой горечи, похожей на привкус старого металла. Железно.
Последний ритуал дня – обход. Он был для него не обязанностью, а медитацией, способом убедиться, что границы его хрупкого мира всё ещё на месте, что за пределами музея не происходит ничего, что требовало бы его вмешательства или бегства. Его шаги беззвучно скользили по отполированному до зеркального блеска линолеуму, и этот звук – вернее, его отсутствие – был единственной музыкой, которую он признавал. Взгляд, привыкший к полумраку, скользнул по оскалу медведа-великана из ледникового периода, по застывшим в вечном полёте птицам под потолком, чьи перья давно уже истлели под слоем пыли. Ничего. Никакого отклика, ни малейшей искры в окаменевшем сознании. Они были просто мёртвой материей, красивыми оболочками, из которых давно ушла жизнь. В отличие от него.
Он замедлился у своей негласной «станции подпитки» – витрины с солдатскими письмами эпохи Великой войны. Пожелтевшие конверты, сложенные в аккуратные стопки, чернила, выцветшие до цвета сепии и времени. Здесь история не кричала о подвигах, а шептала о простых человеческих вещах: о любви, о страхе, о тоске по дому, который многие уже не увидят. Каи прикоснулся подушечками пальцев к холодному, идеально чистому стеклу, закрывая глаза.
И почувствовал.
Тонкие, как паутина, нити, протянувшиеся сквозь десятилетия. Тоска, пропитавшая бумагу на молекулярном уровне, стала сладковатым холодком на его языке. Щемящая нежность к далёкой невесте отозвалась теплом под рёбрами. Смертельный холод окопов, страх, который уже выцвел, оставив после себя лишь лёгкий, терпкий привкус, как от старого вина. Он сделал короткий, едва заметный вдох, втягивая в себя эту пыльцу чужих, отзвучавших чувств. Это был эфирный нектар, лишённый греха и боли живого человека, безопасная дистанциярованная подпитка. Голод, вечный спутник, на мгновение отступил, уступив место горьковатой, но желанной сытости. Он не насыщался, он лишь отодвигал неизбежное.
Пожиратель эхо, – с привычной, отполированной до блеска долей цинизма подумал он. Самый безобидный хищник в мире. Санитар памяти, патологоанатом забытых чувств.
Раздался скрип.
Резкий, сухой, словно кость, ломающаяся под давлением. Он шёл не от входа – из глубины зала, от секции «Археология и древние культы», где за стеклом дремали каменные лики языческих идолов и обломки алтарей, посвящённых забытым богам.
Каи замер, все чувства, обычно приглушённые необходимостью казаться человеком, обострились до животного состояния. Слух уловил малейшие вибрации воздуха, обоняние – тысячу запахов пыли, воска и древесины, но ничего чужеродного. Ничего. Только неподвижные тени, отбрасываемые лунным светом из высоких окон, и безмолвные каменные лики, взирающие на него с немым укором.
Паранойя, – мысленно, почти сердито отрезал он себе. Стоит лишь раз нарушить рутину, позволить себе лишнюю крону чужой тоски, и вот тебе – старые стены начинают говорить. Зданию два века, у него есть тысяча и одна причина для скрипа.
Он потянулся к выключателю, чтобы погрузить зал во тьму и уйти, завершив ритуал. И в последний момент, почти против своей воли, взгляд упал на огромное, в полстены, венецианское зеркало в позолоченной раме, оставшееся от прошлой выставки. Оно стояло в стороне, прислонённое к стене, и в нём отражалась тёмная пустота противоположного зала.
И он увидел.
В его отражении, в самом центре зала, стояла женщина.
Высокая, в длинном тёмном пальто, с волосами цвета воронова крыла, ниспадающими на плечи. Она не двигалась, застыв, как изваяние. И смотрела. Прямо на него. Прямо в его отражение, словно стекло было не барьером, а окном, и она стояла по ту сторону, в мире отражений.
Лёд, острый и колкий, пробежал по позвоночнику, сковывая мышцы. Он рванулся с места, резко, с непривычной для него резкостью обернувшись, готовый к столкновению, к борьбе, к чему угодно.
Зал был пуст. Абсолютно, безоговорочно пуст. Лишь его одинокая тень легла на пол от света луны.
Сердце заколотилось, сдавливая горло судорожным комом. Он не мог ошибиться. Он видел. Это не было игрой света и тени, не было галлюцинацией уставшего сознания. Инстинкт, древний и дикий, заглушивший все рациональные мысли, завыл внутри тревогой, зовя к бегству. Это был не скрип дерева. Это был звук капкана, мягко щёлкнувшего где-то в темноте.
Он больше не был невидимкой. Не был тенью, бесшумно скользящей между чужими воспоминаниями. За ним наблюдали. И наблюдатель был не из мира живых, не из мира людей.
Каи почти бегом, забыв о всякой осторожности, двинулся к служебному выходу, ведущему в подвал и на парковку. Ему нужно было домой. В стены своей квартиры, в свой кокон, сотканный из привычных вещей и выстроенных защитных барьеров. Сейчас же.
Он вставил ключ в замок, рука дрожала, выдавая внутреннюю панику. Дверь со скрипом, словно нехотя, открылась, обдавая его запахом сырости, старой бумаги и чего-то ещё… металлического? Острого, знакомого.
И тут он почувствовал другое.
Не эхо прошлого, не бледные, выдохшиеся эмоции, запертые в предметах. А яркую, звенящую, как натянутая струна, ноту живого, настоящего, сиюминутного страха. Она витала в воздухе, свежая и острая, словно капля крови на снегу. Чей-то страх. Не его. Чужой.
Он зажёг свет, резким, почти истеричным движением.
Лампы-«грызуны», висящие на длинных проводах, мигнули, помаргивали, и ярко вспыхнули, заливая белым, безжалостным светом длинное помещение архива. Стеллажи, заставленные коробками и папками, всё было на своих местах. Ничего не тронуто. Ничего не изменено.
Но посреди зала, у его рабочего стола, на полу лежала книга. Большой, кожаный фолиант с потёртым корешком, которого он здесь не оставлял. И уж точно не бросал на пол, в пыль.
Каи медленно, словно против воли, подошёл, чувствуя, как колени стали ватными, предательски подкашиваясь. Он наклонился, вглядываясь, стараясь дышать ровно, но сердце бешено колотилось где-то в горле.
Книга была открыта. На пожелтевшей, испещрённой трещинками времени странице был изображён изящный, почти фотографический рисунок. Девятихвостый лис. Не мифический, стилизованный зверь, а живой, с умными, холодными глазами из жидкого золота, которые, казалось, смотрели прямо на него, видя его сквозь толщу лет. А ниже – гравюра: охотник в монашеском одеянии вонзал серебряный кинжал в сердце прекрасной девушки, из чьей спины, словно кровавые ростки, вырастали те самые девять лисьих хвостов.
И на полях, рядом с изображением охотника, чьей-то уверенной рукой был выведен чернильный крест. Свежий. Чернила ещё не до конца высохли и отливали синевой, словно только что пролитая кровь.
По спине Каи пробежала судорога, болезненная и резкая. Голод, только что усмирённый, проснулся с новой, яростной силой, но теперь это был не голод к еде, не потребность в подпитке. Это был голод к выживанию, древний, слепой и всепоглощающий.
Одиночеству, его главному и единственному союзнику, пришёл конец.
Глава 2. Кожа и Серебро
Он не помнил, как оказался на улице. Ледяной ливень, обрушившийся с небес, хлестал ему в лицо слепыми, ядовитыми струями, но Каи почти не чувствовал холода. Внутри него пылал пожар – дикий, неконтролируемый, рождённый из коктейля страха, ярости и того самого инстинкта выживания, что поднимался из самых глубин его существа. В одной руке он сжимал ключи от машины до хруста в костяшках, в другой – завёрнутый в его же собственный пиджак тяжёлый фолиант. Книга будто бы пульсировала в такт его бешеному сердцебиению, живой, зловещий артефакт, чей вес ощущался не в мышцах, а в самой душе.
Он влетел в свою старую, невзрачную машину, ржавое корыто, которое он выбрал именно за его способность растворяться в городском потоке. Швырнул свёрток на пассажирское сиденье, и дрожащими, почти не слушающимися руками вставил ключ в замок зажигания. Пальцы скользили по металлу, отказываясь повиноваться, и он мысленно проклял свою слабость, эту человеческую дрожь, которая всегда выдавала в нём хищника, притворяющегося овцой. Двигатель, к его удивлению, завёлся с первого раза, и Каи почувствовал мимолётный, суеверный укол благодарности к этому куску железа. Он дал по газа, и автомобиль рванул с места, взбивая фонтаны брызг с мокрого асфальта, унося его прочь от музея, от этого каменного гроба, внезапно ставшего ловушкой. Только когда в зеркале заднего вида погасли и растворились в дождевой пелене огни музея, он позволил себе сделать первый глубокий, срывающийся на полуслове вдох.
«Спокойно, Каи. Думай. Соберись, чёрт возьми», – приказал он себе мысленно, но голос в его голове звучал чужим и слабым.
Но думать не получалось. Мозг, отточенный годами каталогизации и анализа, отказывался служить, выдавая лишь обрывки образов, ярких и болезненных: чёрные, бездонные глаза в зеркале, в которых не было ни души, ни отражения; свежие, почти влажные чернила на жёлтой, старой бумаге; холодный блеск серебряного клинка, входящего в плоть на древней гравюре. Каждая деталь вонзалась в сознание, как заноза.
Он ехал по пустынным ночным улицам Веймаркта, инстинктивно выбирая самые тёмные и запутанные маршруты, петляя по узким переулкам, где фонари были разбиты или горели тусклым, умирающим светом. Его взгляд постоянно метался по зеркалам – заднего вида, боковым – выискивая в потоках дождя силуэты преследователей. Каждая встречная фары, слепящая на повороте, казалась ему взглядом охотника, каждое движение в тени – приготовлением к атаке. Он был дичью, поднятой с лёжки, и это ощущение было ему знакомо до тошноты, до дрожи в поджилках. Оно жило в нём на генетическом уровне, в самой сути его лисьей крови, в памяти предков, которых травили собаками и серебром.
Его квартира находилась в старом, почти заброшенном доме на самой окраине города, где соседями были тишина, забвение и призраки былой роскоши. Этот район когда-то был элитным, но время и прогресс прошлись по нему катком, оставив после себя лишь фасады с осыпающейся лепниной и подъезды, пахнущие историей и плесенью. Он вбежал в подъезд, пахнущий кошачьей мочой, влажной штукатуркой и сладковатым душком тления, и, поднявшись на третий этаж, наглухо, с силой, рожденной паникой, захлопнул за собой дверь. Щёлкнули все три замка – сначала механический, тяжёлый и надёжный, а потом и два других, которые он установил сам, чьи скрытые защёлки были сделаны не из стали, а из закалённой лисьей воли и паранойи.
Только здесь, в стенах своего убежища, своего логова, он позволил плечам опуститься, спине коснуться холодной поверхности двери. Но расслабление было относительным, обманчивым – мышцы всё ещё были напряжены, как струны, а слух, обострённый до предела, улавливал каждый шорох за стеной, каждый скрип старых половиц, каждый удар своего собственного сердца.
Он включил свет. Его жилище больше походило на логово учёного-отшельника, чем на дом молодого человека. Книжные стеллажи до потолка, заваленные старыми фолиантами в кожаных переплётах и современными научными журналами, создавали причудливый симбиоз эпох. На столе – мощный микроскоп, разобранные часы с видимым механизмом, чертежи и схемы. Ничего лишнего, ничего, что могло бы рассказать о хозяине. Ни фотографий, ни безделушек, ни намёка на личную жизнь. Только инструменты для изучения мира и самого себя, щит, собранный из знаний и безразличия.
Он осторожно, как бомбу, как нечто, что может взорваться от неверного движения, положил свёрток на большой деревянный стол, служивший ему и письменным, и обеденным, и главным полем битвы с собственными демонами. Развернул пиджак, мокрый и грязный. Книга лежала перед ним, тёмная и молчаливая, но её молчание было оглушительным.
При свете настольной лампы, отбрасывающей жёлтый, уютный круг, он смог рассмотреть её лучше. Переплёт был сделан из толстой, грубой кожи, потёртой до дыр по углам, покрытой сетью мелких царапин и ссадин. Он провёл пальцем по поверхности, и кожа отозвалась странной, почти живой теплотой, словно впитавшая в себя тепло бесчисленных рук, что держали её до него. Застёжки – из почерневшего от времени железа, массивные и простые. Он провёл пальцем по корешку – никаких тиснений, никаких названий, лишь гладкая, старая кожа. Анонимность делала её ещё более зловещей, словно она сама стерла своё прошлое, чтобы начать новую историю – с ним.
Он снова открыл её на той самой странице, и холодок пробежал по его спине. Рисунок лиса был выполнен с неестественной для средневековых манускриптов точностью. Каждая шерстинка, каждый блик в глазах, полных холодного, почти человеческого интеллекта. Это не был символ, аллегория или предупреждение. Это был портрет. И он смотрел прямо на Каи, будто видя его через толщу веков, узнавая в нём родственную душу, последнего отпрыска.
А рядом – охотник. Каи вгляделся в гравюру, вживаясь в каждую линию. Лицо под капюшоном было скрыто, погружено в тень, но рука, сжимающая кинжал с костяной рукоятью… на запястье была видна татуировка. Сложный, переплетающийся узор, напоминающий то ли терновый венец, то ли колючую проволоку, символ, говорящий о боли, долге и отречении. Он запомнил это. Запомнил, как табличку в музее.
И крест. Он наклонился ближе, почти касаясь страницы носом, вдыхая запах старой бумаги, пыли и… чернил. Они пахли. Не просто чернилами, а чем-то ещё. Полынь? Или горький миндаль? Сладковатый и ядовитый аромат, вызывающий лёгкое головокружение. Он, почти не думая, провёл подушечкой пальца по символу – и дёрнул его назад, обожжённый. От креста исходила лёгкая, но ощутимая аура, вибрация – боли, страха, сконцентрированной ненависти. Это было не просто чернильное пятно. Это было заклинание. Проклятие. Метка, призванная пугать, тревожить, привлекать внимание того, для кого она предназначена.
«Меня не просто нашли. Меня вызывают на дуэль. Это не охота, это поединок», – пронеслось в его голове, и от этой мысли стало одновременно и страшнее, и… почти спокойнее. Неопределённость сменилась знанием врага.
Он откинулся на спинку стула, закрыв глаза, пытаясь заглушить гул в ушах. В памяти, как всплывающие обломки кораблекрушения, всплыли обрывки детства, того, что он старался забыть, закопать в самом дальнем углу сознания. Шёпот матери, единственной, кто знал его секрет – нет, не секрет, а тайну, тяжелее и значительнее любого секрета.
«Наша сила – в нашей душе, Каи, а не в хвостах. Хвосты – это лишь следствие, внешнее проявление внутренней работы. Каждый хвост – это не просто мощь. Это преодолённое искушение, прожитая жизнь, усвоенный урок. Девять хвостов – это девять жизней, прожитых в мудрости, девять испытаний, пройденных до конца. Но чтобы их обрести… нужно пройти через огонь, через боль, через отречение от самой себя».
Он прожил лишь одну жизнь. И едва справлялся с одним, фантомным, невидимым хвостом, который был скорее намёком, обещанием, чем реальной силой. Что уж говорить о девяти. Он был ребёнком в теле взрослого, щенком, которого приняли за волка.
Он снова взглянул на книгу, на этот молчаливый ультиматум. Кто мог оставить её? Охотник, который уже знает, кто он, и играет с ним, как кот с мышкой? Или… другой кумихо? Старший, более могущественный, который пытается его о чём-то предупредить, показать ему его собственную историю? Мысль о том, что он не одинок в этом городе, была одновременно пугающей и соблазнительной, как огонь в стуже. Возможно, есть другие. Возможно, ему есть к кому обратиться.
Он начал листать книгу медленнее, внимательно изучая каждую страницу, вглядываясь в шрифты и символы. Текст был написан на латыни, перемежающейся странными, незнакомыми значками, похожими на алхимические символы или руны забытого языка. Он знал латынь достаточно хорошо, чтобы понять общий смысл. Это был трактат о «нечисти», об иллюзиях, о способах распознавания и уничтожения существ, скрывающихся среди людей. Учебник для охотников. Его сердце сжалось.
И тут он нашёл кое-что. На одной из страниц, посвящённых «лису-оборотню», кто-то из прежних владельцев оставил пометки на полях. Не чёрными, свежими чернилами, а коричневыми, выцветшими, словно кровь, давно просохшая на пергаменте. И почерк был другим – старомодным, витиеватым, с росчерками и завитками.
«…ибо истинная сущность его проявляется не в лунном свете, но в отражении истинной веры…»
А рядом, на полях, было аккуратно выведено: «Зеркало Лана́я?»
Каи замер, как вкопанный. Зеркало Ланая? Он никогда не слышал этого названия. Но слово «зеркало» отозвалось в нём эхом от сегодняшнего вечера, болезненным и ярким. Та женщина, призрак, видение – она явилась ему в зеркале. Это не могло быть совпадением.
Он листал дальше, быстрее, с растущим, лихорадочным волнением, чувствуя, как пазлы начинают сходиться, складываясь в картину, которую он пока не мог разглядеть целиком. И нашёл ещё одну пометку, рядом с главой о серебре.
«Не всякое серебро вредит им. Лишь то, что было закалено в огне веры и закалено в воде, освящённой в ночь полнолуния. Ищите кузнецов-аскетов из ордена Серебряного Рассвета».
Орден Серебряного Рассвета. Это было уже что-то. Не просто «охотники», а название. Организация. Имя врага. Оно звучало как похоронный звон, но также и как ключ.
Он уже собирался закрыть книгу, чтобы обдумать найденное, когда его взгляд, скользя по переплёту, упал на форзац – внутреннюю сторону переплёта. Там, в самом низу, почти незаметно, был начертан маленький, изящный знак. Не крест. А стилизованный цветок. Возможно, роза, с острыми шипами. И под ним – инициалы, выведенные тем же выцветшим почерком: «A. L.».
Сердце Каи ёкнуло, сделав в груди больноq прыжок. Инициалы. Возможно, владельца. Или автора пометок. Это была ниточка. Первая зацепка в кромешной тьме, которая его окружила, слабый огонёк в конце туннеля.
Он отодвинулся от стола и подошёл к окну, раздвинул жалюзи. Город спал, или делал вид, что спит, под холодным дождём. Где-то там, в этой ночи, бродил тот, кто оставил книгу. Охотник с татуировкой на руке. Или женщина с глазами из обсидиана. А может, и тот, кто скрывался за инициалами «A. L.». Друг или враг? Союзник или приманка?
Страх всё ещё сидел в нём, холодный и липкий, как смола. Но к нему теперь примешивалось нечто новое, щекочущее нервы и заставляющее кровь бежать быстрее. Любопытство. Азарт. И та самая, проклятая, лисья дерзость, которую он так тщательно подавлял в себе все эти годы. Ощущение, что игра началась, и теперь нельзя просто спрятаться.
Он больше не был просто жертвой, бегущей в слепой панике. Он стал детективом в своей собственной истории выживания. И у него на руках были первые улики.
Он повернулся и снова взглянул на книгу, лежащую в луже света от лампы. Теперь это был не только символ угрозы, но и карта. Карта, ведущая через лабиринт его прошлого и настоящего. Карта, ведущая к спасению. Или к погибели. Или, что более вероятно, и к тому, и к другому одновременно.
«Ладно, – тихо, почти беззвучно прошептал он в гробовую тишину квартиры, обращаясь к книге, к городу, к невидимому противнику. – Начинаем охоту».
И впервые за долгие годы его губы тронула не улыбка циника, а оскал хищника.
Глава 3. Защита и Намётки
Тишина, наступившая после бегства из музея, была обманчивой. Она не принесла успокоения, а лишь оголила нервы, натянутые до предела, как струны, готовые лопнуть от малейшего прикосновения. Первую ночь Каи не сомкнул глаз. Он сидел в своей квартире-крепости, в кресле, поставленном так, чтобы видеть и дверь, и окно, и его взгляд постоянно, с маниакальным упорством, возвращался к книге, лежавшей на столе. Она молчала, но её молчание было красноречивее любых слов, громче любого крика. Это был ультиматум, брошенный ему в лицо, вызов, от которого нельзя было отмахнуться. Каждый шорох за стеной, каждый скрип старого дома заставлял его вздрагивать и впиваться пальцами в подлокотники, пока суставы не белели от напряжения. Он был загнан в угол, и он это знал.
Когда за окном посветлело, окрашивая стекла в грязно-серый, больной цвет городского утра, он понял, что должен действовать. Бегство, паническое и бездумное, было временной мерой, отсрочкой, не более. Чтобы выжить, нужно было понять, кто и почему объявил на него охоту. Кто скрывался за инициалами «A. L.»? Что такое Зеркало Ланая? И какую именно угрозу представлял собой Орден Серебряного Рассвета? Вопросы висели в воздухе, тяжелые и неумолимые, как свинцовые гири.
Прежде чем что-либо выяснять, нужно было обезопасить тылы. Его квартира была его единственным убежищем, коконом, который он плел годами. Он начал с обычных, человеческих мер: проверил все замки на двери, простукал укреплённую дверную коробку, убедился в надёжности засова, который он установил своими руками, вбивая каждый шуруп с яростной решимостью. Затем перешёл к окнам, убедившись, что рамы не прогнили, а ручки защёлкиваются плотно, без зазоров. Он делал это методично, с холодной концентрацией, вытесняя страх рутиной проверки. Но этого было мало. Глупо было полагать, что железная дверь остановит того, кто способен проникнуть в запертый музей и оставить послание, невидимое для камер.
Противник был не из тех, кого останавливают физические преграды. Каи чувствовал это кожей, каждым волоском на затылке. Ему требовалась защита иного рода. Защита, которую не купишь в магазине и не установишь с помощью отвёртки.
Он отодвинул стул и встал на колени в центре комнаты, на голом полу, чувствуя холод дерева сквозь тонкую ткань брюк. Закрыв глаза, он погрузился в себя, в ту тёмную, пульсирующую глубину, где таилась его истинная природа, дикая и пугливая. Он искал внутри ту самую энергию, что делала его кумихо, ту силу, что позволяла ему питаться эхом эмоций. Это было похоже на попытку приручить дикое, раненое животное внутри собственного тела – опасно, больно, но необходимо. Он мысленно протягивал руку к тому, что всегда старался держать в цепях, уговаривая, упрашивая, приказывая.
Медленно, с невероятным усилием воли, он начал направлять тонкие, зыбкие потоки этой энергии к границам своего жилища. Он водил ладонью в нескольких сантиметрах от стен, не касаясь их, представляя, как плетёт невидимую паутину, сложную, переливающуюся сеть из собственной воли, магии и отчаянной потребности в безопасности. Это не было колдовство в привычном смысле, не требовало заклинаний или ритуалов с свечами и травами. Это было глубинное, инстинктивное творение – создание барьера, который должен был стать продолжением его собственных чувств, его слуха, его обоняния, его шестого чувства. Он вплетал в эту сеть каждую тревогу, каждый испытанный страх, каждую каплю адреналина, что липла к его пальцам. Он создавал не стену, а нервные окончания, обволакивающие его логово.
На это ушло несколько часов. Когда он закончил, его бросало в жар, а на лбу и висках выступила солёная испарина, сердце бешено колотилось, как после долгого бега. Физическое источение было глубинным, выкачивающим все соки. Но он чувствовал это – лёгкую, едва уловимую вибрацию в воздухе, незримую дрожь, исходящую от стен, пола, потолка. Теперь любое вторжение, любое прикосновение чужой, враждебной магии к его порогу он почувствует как резкий, болезненный укол в сознание, как ожог на коже. Это не остановит врага, но даст ему драгоценные секунды на реакцию. Секунды, которые в его мире могли стоить жизни.
Подкрепившись скудным, безвкусным завтраком, который он проглотил, почти не пережёвывая, он приступил ко второй части плана – поиску информации. Выходить в открытые источники, бороздить просторы интернета было безумием. Любой запрос о «Зеркале Ланая» или «Ордене Серебряного Рассвета» мог быть ловушкой, цифровой приманкой, или, по меньшей мере, сигналом для того, кто его ищет. Он представлял себе аналогов паутины, раскинутой в сети, где любое колебание нити немедленно донеслось бы до того, кто сидел в центре.