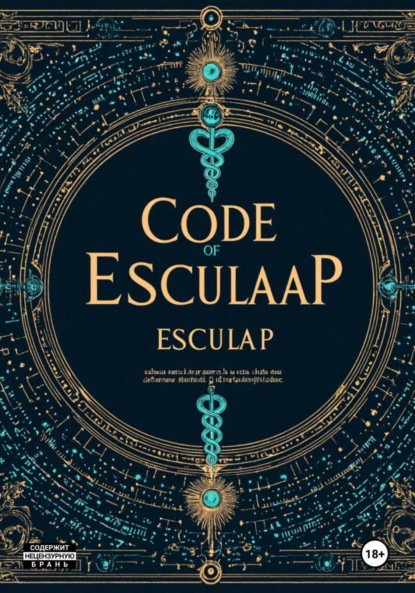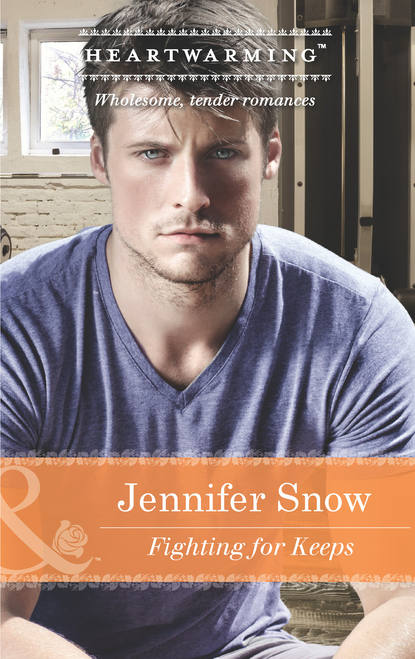- -
- 100%
- +

Глава 1
Доктор Марк Восс ненавидел запах смерти по утрам. Не тот резкий, химический запах, что царил в его бывшем операционном зале – смесь антисептика, озона и крови. И не затхлый, пыльный запах стариковского дома. Нет. Запах в морге при управлении криминальной полиции Аугсбург-ам-Рейна был особенным. Он был стерильным и безличным, как сам Марк в последнее время. Хлорка и дезинфектант боролись с невидимой органикой, но не могли перебить сладковато-горькое амбре разложения, которое въелось в стены, в плитку на полу, в латекс перчаток. Это был запах конца. Диагноза, не оставляющего места для надежде.
Всего несколько лет назад его утра начинались иначе – с аромата свежесваренного эспрессо и стерильной чистоты операционной №3 в клинике «Св. Луки». Тогда он был богом в белом халате, а не теневой фигурой в подвале полицейского участка. Теперь божеством здесь был Холод, а его пророком – Смерть.
Он закрыл глаза, и на секунду запах хлорки сменился призрачным ароматом свежесваренного эспрессо и стерильной прохлады операционной №3.
Тот день. Девочка, лет девяти, с пороком сердца, который называли «неоперабельным». Её звали Софи. Родители смотрели на него с надеждой, в которой уже читался привкус отчаяния. Он изучал снимки всю ночь, и в какой-то момент, уже под утро, его мозг, настроенный на пространственное мышление, сложил пазл. Он не просто увидел дефект – он увидел обходной путь. Не стандартный протокол, а изящное, почти невозможное решение.
Он работал шесть часов. Каждый шов был тоньше паутины, каждый разрез – ювелирным движением. Он не чинил насос – он воссоздавал произведение искусства, испорченное природой. Когда сердце девочки, наполненное кровью, забилось в новом, здоровом ритме, он отступил от стола. Тишину нарушил ровный, сильный пик кардиомонитора. Это был не звук аппарата. Это была симфония. Его симфония.В операционной он был спокоен. Его команда замерла в ожидании. – Господа, – сказал он, и его голос, приглушённый маской, прозвучал как удар камертона. – Сегодня мы не следуем учебнику. Сегодня мы его напишем.
В раздевалке он упал на лавку, и его трясло от колоссального выброса адреналина. Но это была сладкая дрожь триумфа. Он спас того, кого нельзя было спасти. В тот момент он был не богом. Он был тем, кто бросил вызов самому богу и выиграл.
Марк открыл глаза. Холодный свет морга выжег призрак прошлого. Теперь его руки, державшие грубую пилу, пахли не антисептиком, а смертью. Он не бросал вызов богам. Он работал на их скотобойне.
Марк грубым, отработанным движением надрезал грудную клетку ножом-пилой. Костная пыльца взметнулась в свете холодных неоновых ламп. Он не моргнул. Его пальцы, когда-то славившиеся ювелирной точностью, способные сшить коронарную артерию тоньше человеческого волоса, теперь держали грубый инструмент патологоанатома с силой, граничащей с яростью.
Он помнил, как впервые взял в руки скальпель на втором курсе медакадемии. Тогда это было подобно посвящению в тайный орден. Теперь же инструменты в его руках напоминали о профанации всего, во что он верил. Каждый разрез – не попытка спасти, а констатация факта. Констатация провала.
–– Восс, ты там опись закончил? – из динамика на стене донёсся хриплый голос комиссара Крафта. – Прокуратура ждёт заключение по Беккеру.
Марк не ответил, лишь сильнее надавил на пилу. Он ненавидел, когда его отвлекали. Ненавидел эту работу. Ненавидел Крафта с его вечным скептицизмом и плохо скрываемым презрением к «опальному доктору». Но больше всего он ненавидел необходимость. Необходимость стоять здесь, в этом подвале, среди трупов, чтобы заработать на адвокатов, которые вот уже восемнадцать месяцев безуспешно пытались оспорить решение медицинского совета.
Адвокаты… Фогель и его бесконечные отсрочки. «Марк, нужно время, процесс сложный, медицинское сообщество закрывает ряды». Иногда ему казалось, что они просто тянут время, выкачивая из него последние деньги. Но что оставалось? Без них у него не было бы даже этого жалкого места в морге.
Врачебная ошибка. Эти два слова жгли его изнутри, как раскалённая кочерга. Он снова и снова прокручивал в памяти тот день. Операционная. Яркий свет. Мониторы. Сердце видного политика, Отто Яна, на столе. И те данные… мелькнувшая на экране аномалия, которую он увидел краем глаза за секунду до того, как сердце пациента просто… остановилось. Оно не боролось, не срывалось в фибрилляцию. Оно сдалось. Как будто кто-то выключил рубильник.
Иногда по ночам он просыпался в холодном поту, чувствуя под пальцами ту самую странную пульсацию в сердце Яна – едва уловимый сбой ритма, которого не должно было быть. И тот взгляд Лизы Шмидт – не ужас, а что-то другое. Что? Растерянность? Признание? Он не мог разобрать. Эта загадка сводила его с ума сильнее, чем официальное обвинение.
Официальное заключение: массивная тромбоэмболия лёгочной артерии, которую Восс «проморгал». Его вина была столь же очевидной, сколь и неопровержимой. Но он-то знал. Чувствовал нутром, скальпелем в своей руке, что что-то не так. Что-то чужеродное.
Он отложил пилу, взял реберные щипцы. С хрустом, который отдавался в его собственной грудиной клетке, он раскрыл грудную полость. Перед ним лежало сердце Ганса Беккера, мелкого вора, зарезанного в подворотне за долг в двадцать евро. Орган был бледным, с синюшными пятнами.
–– Ну что, доктор? – в проёме двери возникла внушительная фигура комиссара Крафта. – Установили причину смерти? Или нам нужно ждать, пока вы проведёте полную перепись всех его клеток?
Крафт. Всегда с сарказмом, всегда с этим взглядом, будто Восс – нечто, прилипшее к подошве его ботинка. Когда-то, на благотворительном приеме, этот же Крафт заискивающе улыбался ему, прося совета по поводу аритмии у тещи. Теперь же он наслаждался своим превосходством.
–– Блестяще, – язвительно протянул Крафт. – А мы-то думали, он от насморка скончался. Оформляй бумаги.Марк не повернулся. – Причина смерти – колото-резаное ранение, повлекшее за собой тампонаду перикарда. Глупость, а не убийство. Попали точно в правое предсердие. Смерть наступила почти мгновенно.
Марк наконец обернулся. Его лицо, некогда появлявшееся на обложках медицинских журналов, было бледным и осунувшимся. Глубокие тени под глазами выдавали ночи, проведённые без сна. Но взгляд оставался прежним – острым, пронзительным, холодным.
–– Медицина, комиссар, – это наука, а не искусство гадания на кофейной гуще, – произнёс он, снимая окровавленные перчатки. – Смерть – это диагноз, а не тайна. Ваши детективы должны найти того, кто держал нож. Моя работа – сказать, куда именно этот нож вошёл.
Он мысленно добавил: «А ваша работа – не мешать тем, кто еще пытается сохранить остатки профессиональной чести». Но говорить это вслух было бессмысленно. Крафт не понял бы. Он видел мир в черно-белых тонах: преступник – жертва, виновный – невиновный. Нюансы вроде врачебной ошибки или несовершенства системы были для него просто дымовой завесой.
Он бросил перчатки в контейнер для опасных отходов и направился к раковине. Дорогой, но поношенный костюм, купленный в те времена, когда он был звездой кардиохирургии «Св. Луки», висел на нем мешком. Ещё одно напоминание о прошлом.
Он помнил день, когда купил этот костюм. После успешной операции на сердце девятилетней девочки. Ее родители плакали от счастья, а он чувствовал себя богом. Теперь те же самые родители, наверное, с ужасом читали в газетах о его падении. «Как мы могли доверить нашего ребенка этому мяснику?»
Вечер застал его за чашкой эспрессо в его аскетичной квартире с видом на промзону. Он отключил телефон, на котором мигало напоминание о завтрашней встрече с адвокатом. Восс достал из сейфа толстую папку. «Дело Яна». Он открыл её. Фотографии, распечатки данных мониторов, протоколы. Его личный крестовый поход. Его одержимость.
Среди бумаг лежала старая фотография: он и Ян за неделю до операции. Политик, уже тогда с тенью усталости в глазах, жал ему руку. «Доктор Восс, я слышал, вы лучший. Я доверяю вам». Эти слова стали для него проклятием. Доверие, которое он не оправдал. Или… кого-то другого?
–– Доктор Восс? – произнёс женский голос, в котором слышалась неуверенность. – Меня зовут Эва Бауэр. Это касается моего мужа, Людвига Бауэра. Полиция говорит… говорят, что он умер от обширного инфаркта. Но… я не верю.Его прервал звонок на городской телефон. Незнакомый номер.
–– Почему? – спросил он, без энтузиазма готовясь выслушать стандартный набор жалоб – «был здоров как бык», «ни на что не жаловался».Марк закрыл папку. Инфаркт. Его старый враг.
–– Потому что за два часа до смерти он играл с внуком в теннис, – голос Эвы дрогнул. – И потому что я нашла это в его кармане.
Она прислала ему MMS. На снимке был чек из частной клиники «Эвридика». Сумма была баснословной. Назначение платежа: «Расширенное генетическое картирование и превентивная консультация».
«Эвридика». Название отдавалось эхом в его памяти. Где-то он уже слышал его? Возможно, в каком-то медицинском журнале или на конференции. Частная генетическая клиника с безупречной репутацией. Или… нет, что-то другое. Что-то, связанное с делом Яна. Он не мог вспомнить, но чувствовал – это важно.
Что-то холодное и тяжёлое, как хирургическая сталь, шевельнулось в груди Марка. То самое чувство, которое появлялось у него за секунду до того, как он вскрывал грудную клетку и понимал, что диагноз был неверен. Чувство, что ты стоишь на краю пропасти, скрытой туманом.
–– Госпожа Бауэр, – сказал Марк, и его голос впервые за долгие месяцы обрёл былую твёрдость. – Я выслушаю вас. Приходите завтра.
Он положил трубку и подошёл к окну. Город Аугсбург-ам-Рейн сиял внизу миллионами огней. Где-то там, в этой паутине из стали, стекла и человеческих жизней, притаилась тень. Тень, которая только что шевельнулась. И Марк Восс, лишенный лицензии хирург, консультант по трупам, был, возможно, единственным, кто мог её увидеть.
Он не знал тогда, что этот звонок станет началом конца. Конца его изгнания и начала новой войны. Войны, в которой у него не будет ни союзников, ни оружия, кроме собственной одержимости и ненависти к неправде. Но именно так всегда и начинаются великие битвы – с тихого шёпота в темноте, который слышит лишь один-единственный человек.
Глава 2
За три часа до катастрофы.Операционная №3 клиники «Св. Луки» была святилищем Марка Восса. Здесь он был богом. Стерильный воздух, ослепительный свет ламп, монотонный пик кардиомонитора – симфония, в которой он был дирижёром. Его команда – отточенный механизм, где каждый винтик знал своё место.
Он провёл в этой операционной больше времени, чем в собственной спальне. Каждый сантиметр этого пространства был ему знаком до мельчайших деталей: едва заметная царапина на хромированной поверхности аппарата искусственного кровообращения, особый угол падения света от центральной лампы, который идеально освещал операционное поле. Это был его дом. Его территория. Его королевство.
Восс стоял над телом Отто Яна. Сердце политика, могучее, но изношенное годами борьбы и скрытых болезней, лежало в его руках. Кардиоплегический раствор остановил его. Наступила тишина, которую Марк называл «священной паузой» – момент между жизнью и смертью, где решалась судьба.
В такие моменты время замедлялось. Он чувствовал не просто биологический орган, а всю жизнь человека, которая была вверена ему. Страхи, надежды, любовь, предательство – всё это было записано в мышечной ткани, в мельчайших рубцах, в извилинах коронарных артерий. Он был не просто механиком, чинящим насос. Он был переводчиком, читающим тайный язык человеческого тела.
–– Шунт на переднюю нисходящую, – его голос, приглушённый маской, был спокоен. Руки, облачённые в перчатки, не дрожали. Игла с прокаином входила в ткань с ювелирной точностью.
«Идеально», – промелькнуло в голове. Анастомоз был безупречным, как шов на дорогом костюме. Ещё несколько часов, и политик, от которого зависели судьбы тысяч людей, сможет снова вернуться к своей работе. Еще одна победа в копилку великого Восса. Он почти физически чувствовал, как к его плечам прибавляется новый погон незримого звания, как растёт его легенда.
–– Марк, давление падает. На 10 пунктов.Лиза Шмидт, его анестезиолог, встретилась с ним взглядом над экраном монитора. Её глаза, всегда такие ясные, сегодня были напряжёнными.
–– В пределах нормы для кардиоплегии, – откликнулся он, не отрываясь от работы. – Продолжаем.
Он заметил эту напряжённость ещё до начала операции. Обычно невозмутимая и сосредоточенная, Лиза сегодня была на взводе. «Устала, – решил он. – Или личные проблемы». Он мысленно пообещал себе поговорить с ней после операции, предложить помощь. Они были больше чем коллеги; они были звеньями одной цепи, которая годами вытягивала пациентов с того света. Он доверял ей так, как не доверял никому – она была его глазами, когда его собственный взгляд был прикован к операционному полю.
Он был в своей стихии. Каждый шов – это формула, каждое движение – доказательство теоремы. Медицина – это наука, – повторял он про себя как мантру. Смерть – это диагноз. А его работа – оспорить этот диагноз.
Он не просто верил в эту мантру – он был её воплощением. Наука, логика, факты. Никаких суеверий, никаких «шестых чувств». Только данные, только протоколы. Эта вера вознесла его на вершину. Она же, как он позже поймёт, сделала его слепым и уязвимым. Он был гением, играющим в шахматы со смертью, и не подозревал, что за его спиной ведётся другая игра, с другими правилами.
Именно тогда, краем глаза, он уловил это. На экране монитора Лизы, среди зелёных зигзагов ЭКГ и ровных линий давления, мелькнула аномалия. Кратковременный, едва заметный всплеск на графике электроэнцефалограммы. Слишком резкий. Как вспышка. Не характерный для пациента под глубокой седацией.
Это длилось доли секунды. Микроскопический артефакт, который девяносто девять врачей из ста проигнорировали бы. Но он был Воссом. Его мозг был настроен на поиск несоответствий, как дорогой спектрометр. Этот всплеск был чуждой нотой в идеальной симфонии данных. Он был… искусственным.
–– Лиза? – спросил он, и в его голосе впервые за всю операцию прозвучала вопросительная нота.Его пальцы замедлились на долю секунды.
Вопрос был не только в аномалии. Вопрос был в том, почему Лиза, с ее орлиным взглядом, не прокомментировала это сама. Почему ее рука, обычно лежащая на регуляторе подачи анестетика, была неподвижна?
–– Артефакт, вероятно. От оборудования. Всё в норме.Она посмотрела на свои датчики, нахмурилась.
Его мозг, воспитанный на строгой логике, тут же предложил рациональное объяснение: наводка от хирургического инструмента, случайный сбой в сети, статистическая погрешность. Но глубоко внутри, в том месте, где прячется первобытный инстинкт, что-то шевельнулось. Что-то крикнуло: «Ложь!»
Но это был не артефакт. Это было искажение. Как помеха в чистом сигнале. Марк почувствовал лёгкий укол интуиции – того самого хирургического чутья, что не раз спасало ему жизнь. Что-то было не так.
Он вспомнил своего старого наставника, профессора Вайнтрауба, который говорил: «Марк, самые важные диагнозы ставятся не в уме, а в кишечнике. Ум будет приводить тебе десятки логичных доводов, а кишечник будет кричать одну-единственную правду. Учись его слушать». Сейчас его «кишечник» кричал. Но он, адепт науки, проигнорировал этот крик. Это станет самой большой ошибкой в его жизни.
–– Снимаем с искусственного кровообращения, – скомандовал он.Он продолжил работу, но семя сомнения было посеяно. Он закончил шунтирование, проверил анастомозы. Всё было идеально.
Это был момент истины. Момент, когда машина перестаёт дышать за пациента, и жизнь должна вернуться в своё лоно. Обычно Марк испытывал в этот миг ни с чем не сравнимое чувство – смесь торжества и смирения. Сегодня он чувствовал лишь ледяной ком в животе.
Сердце Отто Яна, наполненное кровью, должно было заработать вновь. Оно дрогнуло, сделало несколько неуверенных сокращений… и остановилось. Не фибрилляция. Не аритмия. Просто… остановилось. Как часы, у которых вынули батарейку.
Тишина в операционной стала звенящей. Это была не та тишина концентрации, что была раньше. Это была тишина недоумения, переходящего в ужас. Такого не должно было случиться. Не с этой операцией. Не с этим хирургом.
–– Асистолия! – крикнула Лиза.
Её голос прозвучал приглушенно, как из-за толстого стекла. Марк увидел отражение экрана в ее зрачках – ровную, безжалостную линию. Линию, которая станет разделителем между двумя его жизнями.
Последующие пятнадцать минут стали для Марка адским кошмаром, который он потом будет переживать снова и снова в своих ночных кошмарах. Дефибрилляция, адреналин, непрямой массаж. Ничего не помогало. Сердце Яна было мертво. Оно не хотело жить.
Он делал все, что было в его силах, и даже больше. Его руки, эти знаменитые руки, работали на автопилоте, сжимая, массируя, пытаясь заставить мёртвую мышцу сократиться. Но он уже знал. Знавал по тому самому, пустому ощущению в пальцах. Жизнь ушла безвозвратно. Она не боролась. Она сдалась.
Марк стоял, опустив руки. Его перчатки были в крови. Он смотрел на ровную линию на мониторе и на того всплеска, который он видел. Что это было?
В этот момент он ещё не знал, что эта смерть станет его собственной профессиональной смертью. Он не знал, что его вера в науку будет использована против него. Он просто смотрел на неподвижное сердце и видел в нем отражение собственного будущего – такого же безжизненного и бессмысленного. Вопрос «Что это было?» будет преследовать его все последующие месяцы, становясь навязчивой идеацией, единственным смыслом его существования.
…
Заседание медицинского совета было похоже на медленную, ритуальную казнь. Он сидел на стуле посреди кабинета, а вокруг него, за дубовым столом, сидели люди, которые ещё вчера называли его коллегой и просили совета.
Он видел их лица – одни смотрели с искренним сожалением, другие с плохо скрытым злорадством. Карьерные конкуренты, которых он обошёл. Завистники, которых он ослеплял своим талантом. Теперь они получили свой шанс. И они не собирались его упускать.
–– Доктор Восс, – голос председателя совета, профессора Вернера, был холодным, как сталь скальпеля. – Вы утверждаете, что видели некие «аномалии» на мониторе. Однако в официальном отчёте анестезиолога, подписанном доктором Шмидт, никаких аномалий не зафиксировано.
–– Они были! – его собственный голос прозвучал хрипло и отчаянно. – За несколько минут до остановки сердца! Внезапный всплеск на ЭЭГ!
Он пытался до них достучаться, втолковать, что он не ищет оправданий, он ищет истину! Но чем яростнее он пытался доказать свою правоту, указывая на мельчайшие детали, тем больше он выглядел параноиком, одержимым мелочами, который не справился с давлением. Он сам рыл себе могилу собственной дотошностью.
–– Доктор Шмидт объясняет это возможным артефактом, – Вернер отложил бумагу. – А комиссия не нашла в ваших действиях ничего, кроме безупречного выполнения хирургического протокола. Что, к сожалению, и является проблемой. Вы не заметили развивающуюся тромбоэмболию. Вы сконцентрировались на мелочах и упустили главное.
Это было как ловушка. Система, которую он боготворил, превратилась в его палача. Его преданность протоколу была использована как доказательство его вины. «Безупречное выполнение» означало, что он не сделал ничего лишнего, чтобы спасти пациента. Это была изощрённая пытка – его казнили его же добродетелью.
–– Ваша репутация, доктор Восс, – взял слово другой член совета, – была вашим главным активом. И вашей главной слабостью. Вы были так уверены в себе, что не допускали мысли о ошибке. Но даже лучшие из нас ошибаются.
Эти слова жгли больнее всего. В них была горькая правда. Его уверенность была его щитом. И когда щит треснул, у него не оказалось другой защиты.
Голосование было единогласным. Лишение лицензии. Профессиональная смерть.
Когда он выходил из зала заседаний, его взгляд встретился с взглядом Лизы. Она стояла в конце коридора, бледная как полотно. Он хотел к ней подойти, спросить, потребовать объяснений. Но она быстро развернулась и ушла. Её бегство было красноречивее любых слов. В тот момент он почувствовал себя не просто лишённым лицензии. Он почувствовал себя абсолютно одним.
…
Он сидел в своей роскошной квартире с видом на Рейн, которая вдруг стала казаться ему чужой и пугающе большой. На столе перед ним стоял недопитый виски. В руках он держал свой хирургический скальпель. Не для того, чтобы резать. Просто он привык к его весу. К его совершенной, смертоносной форме.
Он смотрел на своё отражение в полированной стали. Глаза, в которых больше не горел огонь. Руки, которые начали замечать лёгкую дрожь. Он думал о том всплеске на мониторе. Он был уверен. Уверен до мозга костей.
«Медицина – это наука», – снова и снова крутилось у него в голове. Но наука предполагала, что твои коллеги – тоже учёные, а не придворные интриганы. Что система существует для поиска истины, а не для самосохранения. Он был наивен. Он был гениальным хирургом, но полным профаном в человеческой природе.
Но его уверенность ничего не стоила против протоколов, подписанных документов, мнения коллег. Его кредо – «Медицина – это наука» – обернулось против него. Наука требовала доказательств. А доказательств у него не было. Была лишь тень. Тень сомнения, которая теперь будет преследовать его до конца дней.
Он швырнул скальпель на стол. Лезвие воткнулось в дерево с глухим стуком. Он подошёл к окну. Город сиял. Где-то там, в другой операционной, другой хирург спасал жизнь. А он стоял здесь. Изгой. Человек-тень.
И в этот момент, в самой глубине его отчаяния, родилось нечто новое. Не смирение, а ярость. Холодная, безжалостная ярость хирурга, который знает, что диагноз был неверен. Он поклялся себе, что найдёт истину. Или умрёт, пытаясь.
Эта ярость была последним, что у него осталось. Единственным топливом, которое могло двигать его вперёд. Он больше не был доктором Марком Воссом, звездой кардиохирургии. Он стал диагностом, поставившим себе единственный вопрос: «Что это было?». И он не успокоится, пока не найдёт ответ. Пусть этот ответ убьёт его. По крайней мере, он умрёт, зная правду.
Глава 3
В его квартире пахло старыми книгами, пылью и отчаянием. Марк редко бывал здесь в светлое время суток, и теперь, в предвечерних сумерках, комната казалась ему чужой. Он заварил себе крепчайший эспрессо, не дожидаясь Лизы. Рука дрогнула, и несколько капель тёмной жидкости упали на потёртый деревянный стол. Он не стал их вытирать.
Эта квартира была его коконом, его убежищем от враждебного мира. Здесь, среди медицинских фолиантов и пыльных архивов, он мог быть самим собой – не изгоем, не неудачником, а исследователем, ищущим ответы. Каждая царапина на паркете, каждое пятно на обоях хранило память о бессонных ночах, проведённых за изучением дела Яна. Это было его сумасшедшее убежище, его святилище одержимости.
Он снова открыл папку "Дело Яна". Фотография Отто Яна на операционном столе, его вскрытая грудная клетка. Распечатки данных с мониторов. Всё сходилось. Тромбоэмболия. Классическая картина. Но был один момент, один единственный кадр, сохранённый его собственным, натренированным годами наблюдением. За секунду до остановки сердца, на ЭКГ промелькнула едва заметная аритмия, не характерная для эмболии. Слишком быстрая, слишком резкая. Как короткое замыкание. Ни один из экспертов не придал этому значения, списав на артефакт записи или реакцию на анестезию. Но Марк знал. Это было похоже на химический ожог изнутри.
Он мысленно представлял себе этот момент снова и снова, как заевшую пластинку. Что если это был не артефакт? Что если это был сигнал? Сигнал чего-то, что вторглось в сердечную мышцу и заставило ее остановиться? Что-то, чего не должно было быть в операционной? Его ум, воспитанный на строгой биологии, отвергал такие фантазии. Но его интуиция, тот самый "кишечник", о котором говорил старый профессор, настойчиво твердил: "Это было не естественно".
Звонок в дверь вырвал его из размышлений. На пороге стояла Лиза Шмидт. В тёмном пальто, с каплями дождя в волосах. Она выглядела уставшей, но её глаза, ясные и внимательные, изучали его с профессиональным интересом, как будто он был её пациентом.
Он не видел ее с того дня в коридоре после заселения совета. Тогда она избегала его взгляда. Сейчас же она смотрела на него прямо, почти вызывающе. В ее позе читалась неуверенность, смешанная с решимостью. Она шла на риск, и они оба это понимали.
–– Марк. Ты жив, – произнесла она, переступая порог. – Хотя выглядишь хуже, чем наш последний пациент с полиорганной недостаточностью.