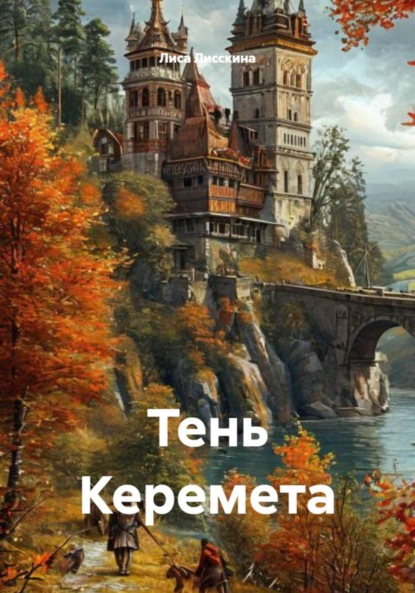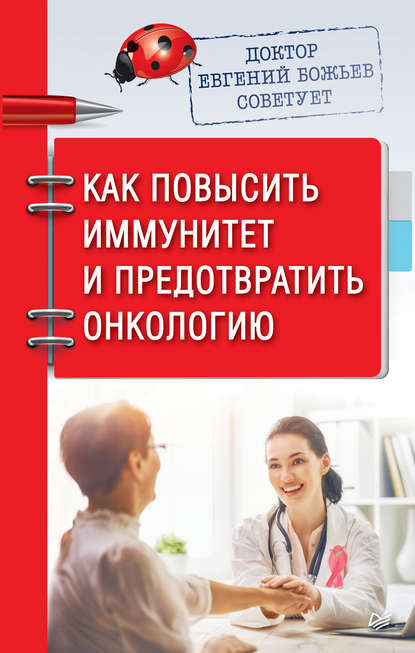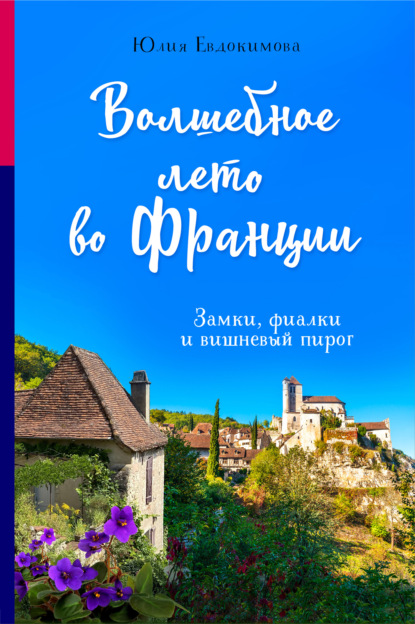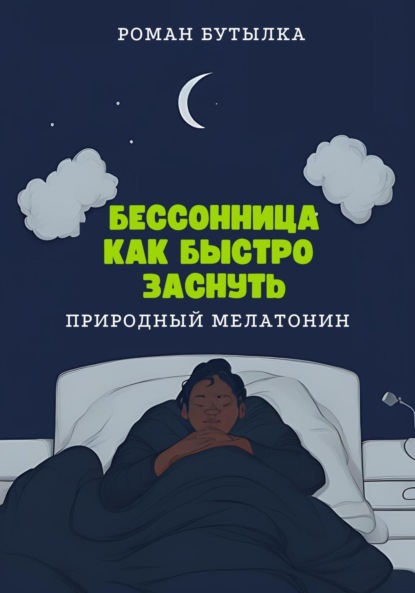- -
- 100%
- +

ПРОЛОГ
Священная роща племени Ветка, май 1690 года
Дым застилал луну, превращая её в мутное расплывчатое пятно, похожее на слепой глаз великана. Он стелился по земле, цеплялся за ветви сосен и дубов, пропитывал одежду и волосы едким запахом гари и горящей смолы. Но хуже дыма был звук – треск старых деревьев, ломающихся под натиском огня, словно кости живого существа.
Айвика стояла на окраине рощи, сжимая в руке оберег из берёзовой коры – шомырт, вырезанный в виде стилизованной утки. Её ладонь побелела от напряжения. Она не плакала. Слезы высохли ещё тогда, когда первый солдат в красном кафтане вонзил топор в подножие векового дуба – Хозяина этой рощи.
Старая Нейна, её бабка и последняя карт – настоящая жрица, – не шевелясь, смотрела на пляшущие языки пламени. Её морщинистое лицо было подобно каменной гримасе.
– Беги, дитя мое, – прошептала она, не поворачивая головы. Голос её был хриплым от дыма, но твёрдым. – Они убьют тех, кто помнит.
– Я не оставлю тебя!
– Ты должна. Ты – последняя. Ты должна помнить. Помнить все.
Нейна обернулась. В её глазах, обычно мутных от старости, пылал отражённый огонь костра. И что-то ещё – свирепая, древняя решимость.
– Они думают, что рубят деревья. Но они рубят по живой плоти мира. Керемет проснётся. Он не простит осквернения. И он придёт не только к ним. Он придёт ко всем. Голодный.
Айвика почувствовала ледяной холодок у себя за спиной. Керемет. Не дух – помощник, не божок, а слепая, яростная сила, порождение хаоса и мести. Его боялись даже старейшины.
– Что делать? – выдохнула она.
– Жить. И помнить. А когда придёт время – найти того, кто сможет выслушать. Даже если у него глаза цвета зимнего неба и крест на груди.
Сзади раздался грубый окрик. Солдаты заметили их. Нейна резко толкнула Айвику в спину.
– Беги!
Девушка бросилась в темноту, в противоположную от огня сторону. Последнее, что она увидела, оглянувшись, – это фигуру бабки, поднявшей руки к небу с закопчённым оберегом, и солдата, заносящего над ней саблю.
И в тот же миг из самой сердцевины горящей рощи вырвался неистовый, немой вопль. Вопль не человека и не зверя. Вопль самой земли, которой нанесли смертельную рану.
Айвика бежала, не разбирая дороги, а в ушах у неё звенела зловещая тишина, наступившая после того крика. Тишина, которая была страшнее любого звука.
Она была последней. И она помнила.
ГЛАВА 1
Иван Родионов. Берег чужой реки
Барка причалила к деревянной пристани Свияжска с глухим, влажным стуком, словно в гроб забивали последний гвоздь. Иван Родионов, подьячий Приказа Казанского дворца, стоял на носу, сжимая в руке рукопись своего последнего московского труда – рискованного исследования о земельных переделах времён Ивана Грозного, которое и стало формальной причиной его ссылки. Он не выпускал её из рук всю дорогу, как талисман, напоминание о том, что разум и знание – единственное, что нельзя отнять у человека.
Свияжск встретил его серым, моросящим небом, примирившим, казалось, воду и землю в одну сплошную, унылую хмарь. Вода в стрелке Волги и Свияги была цвета свинца, небо – цвета той же воды, а деревянные стены и башни крепости, когда-то грозные, теперь казались промокшими насквозь, поникшими и обветшалыми. От всего этого места несло рыбой, влажным деревом, дымом очагов и тоской. Глубокая, провинциальная тоска, в которой тонут амбиции и усыхают надежды.
«Вот она, милость государева, – с горькой усмешкой подумал Иван. – «Повышение по службе для укрепления государевой руки в землях поволжских». Как изящно они это придумали». Его ссылка из Москвы в эту богом забытую дыру была оформлена безупречно. Никакого прямого обвинения в вольнодумстве, только намёки, полушёпот в боярских коридорах и внезапная благосклонность приказного дьяка, нашедшего для столь перспективного юноши «неоценимый опыт в краю, где история дышит в затылок». Он слишком много спрашивал, слишком вчитывался в пыльные свитки, слишком сомневался в непогрешимости «богоизбранных» родов, делавших себе состояние на сомнительных пожалованиях. Его рационализм оказался опаснее, чем прямой бунт.
– Барин, приехали, – проговорил возчик, молодой парень с лицом, обветренным до красноты, словно сыромятная кожа. Он нерешительно переминался с ноги на ногу, глядя на Ивана и его единственный сундук, обитый потёртой кожей – вся его московская жизнь, уместившаяся в ящик. – Куда сундук нести? К воеводе?
– К воеводе, – отрезал Иван, сбрасывая с себя оцепенение. Он заплатил возчику, щедро, не глядя, – пусть весть о щедром москвиче разбежится быстрее, чем весть о ссыльном, – и, подняв воротник добротного, но уже потускневшего в дорожной грязи кафтана, побрёл по колеям, что служили здесь главной улицей.
Крепость была невелика, но представляла собой жилой, кишащий муравейник. Мимо него, брызгая жидкой грязью, проскакал конный стрелец в красном кафтане, сурово глядя перед собой. Торговцы-татары в тюбетейках, расстелив на земле полотна, зазывающе показывали на груды мягких, словно дым, соболиных шкурок. Русские посадские люди в серых зипунах несли бочки с рыбой. Женщины в цветастых платках, переругиваясь, тянули к воде коромысла с вёдрами. Иван ловил на себе взгляды – любопытные, оценивающие, а где-то и настороженные, даже враждебные. Чужак. Причем чужак не простой, а из Москвы, из самого сердца Руси. Это читалось в его осанке, в качестве одежды, в самом взгляде – привыкшем видеть не только вещи, но и связи между ними.
Воеводская изба стояла на самом возвышении, откуда открывался вид на бескрайние, покрытые лесом дали за рекой. Севастьян Игнатьевич, сам воевода, оказался толстым, обрюзгшим мужчиной лет пятидесяти, с заплывшими глазками и седыми, жирными усами. Он принял Ивана в горнице, пахнущей кислыми щами, дёгтем и воском от оплывшей свечи. Воевода сидел за дубовым столом, уставленным остатками трапезы – объедками курицы, луковой шелухой и глиняной кружкой с брагой, и с нескрываемым неудовольствием разглядывал царскую грамоту с тяжёлой, восковой печатью.
– Ну что ж, Иван Родионыч, милости просим в наш Свияжск, – пробурчал он, откладывая грамоту и жестом предлагая сесть на лавку. Голос у него был хриплый, прокуренный. – Дела у нас тут… спокойные. Перепись земель, раскладка податей, суды местные… Рутина. Места тут бойкие, торговые, народ разный, а посему и бумаг невпроворот. – Он отхлебнул из кружки и смахнул со стола крошки. – Хотя… – воевода хмыкнул, и его маленькие глазки блеснули недобрым огоньком, – покой этот самый в последние недели нарушился. Не до сна, прямо скажу.
Иван вежливо склонил голову, давая понять, что весь во внимании. Он привык слушать больше, чем говорить.
– Было тут дело, недели, может, две назад… Купец здешний, Терентий, пушниной торговал. Человек состоятельный, крепкий, ни на что не жаловался. Нашли его в своей же лавке у пристани. Бездыханного. – Воевода понизил голос, хотя кроме них в горнице никого не было. – Лицо… перекошено было, словно он перед кончиной невесть что узрел. Весь посинел. А на груди, прямо на рубахе, знак какой-то проступил. Синий, будто его крапивой жгнули или железом клеймили, но ожога на коже нет. Знак странный, не наш, не крест, а этакое… колесо с загнутыми спицами.
Иван нахмурился. «Колесо? Надо будет поискать в гербовниках, не родовой ли знак».
– Священники отпели, что положено, предали земле освященной, – продолжал воевода, – а толку? Шепоток пошел нехороший. Народ суеверный, тёмный.
– Что же, по их мнению, случилось? – спросил Иван, стараясь сохранять невозмутимый, деловой тон.
– Чума? – предположил он для проформы.
– Не-е, – протянул воевода, качая головой. – Не чума. Один он такой помер. Лекарь наш, немец, что при артиллерии состоит, смотрел. Говорит, сердце, мол. Удар. А народ… народ говорит другое. – Воевода помолчал, глядя на Ивана, оценивая его реакцию. – Говорят, это Керемет душит. Ихний, здешний бес. Местные, черемиса, в него верят. Говорят, если святое место осквернить, он приходит и душит осквернителей. – Воевода махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. – Вздор, конечно. Бабьи сказки. Язычество неистребимое. Но шепоток этот неприятный. Люди боятся. По вечерам из домов не выходят, на охоту в глубь леса не ходят. Подати платить хуже стали, сказываются, мол, нечистая сила доходы побила. – Он тяжело вздохнул. – Так что, Иван Родионыч, твоя задача – не только земли описывать да бумаги составлять. Ты человек грамотный, учёный, из столицы. Глаз острый. Приглядись, вникни. Авось, разберёшься, что за напасть у нас приключилась, и народ успокоится. А то, того и гляди, до бунта дойдёт. Одни веру предков ругают, другие кресты на домах рисуют.
Иван молча кивнул. В голове у него уже выстраивались логические цепочки. Смерть купца. Странный знак. Суеверия. Возможные экономические или личные мотивы. «Вот как, – подумал он с едкой иронией. – Ссыльного вольнодумца назначают следователем по делам о потусторонних силах. Ирония судьбы поистине достойна античных трагиков».
Выйдя от воеводы, он снял комнату в доме у вдовы одного из стрелецких сотников – чисто, скромно, и хозяйка, женщина молчаливая, не докучала расспросами. Устроив свои нехитрые пожитки, Иван решил пройтись, чтобы ощутить пульс этого места, понять его ритм.
Он вышел к рынку, что шумел у самой пристани. Воздух был густ от запахов вяленой рыбы, конского пота, специй и свежего хлеба. Крики торговцев, ржание лошадей, скрип телег – все сливалось в оглушительную симфонию жизни. И тут, на краю этой людской круговерти, он снова почувствовал тот самый холодок отчуждённости. Его взгляд скользнул по толпе и… остановился.
На нее.
Она стояла в тени, отбрасываемой высоким забором, неподвижная, как изваяние. Высокая, стройная девушка в тёмном, почти чёрном платье, расшитом непонятным геометрическим орнатом красными и белыми нитями. Руки её были скрещены на груди, а бледное, с тонкими, резкими чертами лицо, обрамленное гладкими, тёмными как смоль волосами, было обращено не к рынку, а к тёмному, поросшему хвойным лесом берегу за рекой. Но не это поразило Ивана больше всего. Поразили её глаза. Огромные, тёмные, почти чёрные. И в них читалась не просто тоска или печаль. В них была бездонная, вековая скорбь и… знание. Такое горькое и тяжелое, что, казалось, оно должно было сокрушить её хрупкие плечи.
Иван, привыкший анализировать и классифицировать, застыл в недоумении. Кто она? Дочь местного ремесленника? Нет, в ней было слишком много дикой, природной грации. Беглая крестьянка? Слишком гордая осанка.
Вдруг, словно почувствовав его взгляд, она медленно, очень медленно повернула голову. Её тёмные глаза встретились с его серо-голубыми. Всего на секунду. Меньше, чем на секунду. Но в этом мгновенном контакте Иван прочитал не просто любопытство. Он прочитал безошибочное, чёткое узнавание. Она смотрела на него не как на незнакомца, а как на ожидаемую, но нежеланную часть какого-то сложного узора. И в глубине её взгляда мерцало предупреждение. Ясное, как вспышка молнии в летнюю ночь: «Не лезь. Уходи».
Потом она развернулась и бесшумно растворилась в узком переулке, ведущем вглубь слободы, где жили вперемешку бедные русские ремесленники и коренные жители этих земель. Она исчезла так быстро, словно её и не было, словно это была лишь тень от пробежавшей по небу тучи.
Иван Родионов остался стоять посреди шумного, гомонящего рынка, чувствуя, как по его спине, вопреки всем законам логики и разума, медленно и неумолимо пополз ледяной холодок. Рационализм, его главный щит и меч, дал первую, но уже глубокую трещину.
И в тишине его собственного ума, сквозь шум толпы, прозвучало одно – единственное слово, услышанное им сегодня и отложившееся в памяти, словно заноза.
«Керемет».
ГЛАВА 2
Айвика. Тень священной рощи
Солнце, поднимавшееся над Свияжском, было для Айвики не светилом, а дырой в небе, через которую льётся чужой, безжалостный свет. Оно освещало не её мир, а его могилу. Её мир остался там, за широкой лентой реки, в дыму горящих дубов и в предсмертном хрипе бабки Нейны. Этот новый мир пах чужими людьми, их едой, их богом и их страхами.
Она пришла на рынок у пристани не за покупками – несколько монет, выменянных на собранные в лесу целебные травы, не позволяли разгуляться. Она пришла смотреть, слушать и чувствовать. Её задачей, её проклятием и её долгом было быть последним часовым у могилы своего народа. Последней, кто помнил не просто слова заговоров, а сам их вкус на языке, последней, кто слышал не просто мелодии песен, а тот голос земли, что рождал их. Теперь эта земля стонала под сапогами стрельцов и колёсами телег.
Пальцы сами нашли в складках тёмного платья маленький деревянный шомырт – утку, вырезанную когда-то рукой деда. Символ связи между мирами, между водой, землёй и небом. Она сжала его так, что древесина впилась в кожу, оставляя красный след. Эта боль была якорем, единственным, что удерживало её от того, чтобы с криком броситься прочь из этого людского муравейника.
Именно в этот миг её спину пронзило лучом чужого, пристального внимания. Это был не беглый взгляд торговца, оценивающий товар, и не грубое око стрельца. Это был взгляд учёного, холодный и аналитический, словно её рассматривали через увеличительное стекло, пытаясь классифицировать, разложить по полочкам.
Айвика медленно, словно нехотя, повернула голову. И увидела его.
Чужак. Высокий, прямой, в когда-то дорогом, но потускневшем в дорожной пыли кафтане. Лицо – бледное, не тронутое ветром и солнцем, с резкими, словно высеченными чертами. Но больше всего её поразили его глаза. Цвета зимнего неба, серо-голубые, и в них читалась не привычная для этих мест усталость от тяжкого труда, а усталость от мыслей. В них горел огонь рассудка, тот самый, что выжигает веру в душу дерева и заменяет её сухой строкой в пыльной книге.
«Москвич, – безошибочно определила она. – Приказной. Человек бумаги. Тот, кто верит, что истину можно заключить в протокол».
Их взгляды встретились. Всего на одно короткое мгновение, за которое не успевает упасть на землю сорванный с ветки лист. Но для Айвики этого хватило. Она прочла в нём всё. Он был опасен. Не так, как солдат с саблей. Тот может отнять жизнь. Этот же, со своими вопросами, своими расследованиями, мог отнять последнее, что у неё осталось – память, тайну, тишину. Он был тем, кто придёт и начнёт раскапывать недавно затоптанную могилу, поднимет пепел священной рощи, потревожит и без того взбаламученные воды. Он, сам того не ведая, докричится до того, что дремало в глубине, и окончательно разбудит Керемета.
«Не лезь, – подумала она, вкладывая в свой взгляд всю силу воли, всю накопленную боль и ярость. – Уходи отсюда. Пока не стало слишком поздно. Для всех».
Она увидела, как его уверенность дрогнула. В глазах мелькнуло недоумение, а за ним – та самая, знакомая ей по лицам местных, холодная струйка страха перед неведомым. Хорошо. Пусть боится. Иногда только страх и может остановить этих людей от самоубийственного любопытства.
Не сказав ни слова, она развернулась и ушла, не оборачиваясь. Её ноги сами несли её по узким, грязным улочкам слободы, где русские избы соседствовали с низкими, вросшими в землю домами её соплеменников. Она шла к тому, что стало её новым пристанищем – дому слепой старухи-чувашки, которая пустила её к себе в благодарность за то, что Айвика когда-то спасла от лихорадки её внучку.
Дом пах сушёными травами, дымом очага и безвозвратно уходящим временем. Примостившись на лавке у закопчённого окошка, Айвика закрыла глаза, пытаясь унять дрожь в руках. Перед её внутренним взором снова встало лицо бабки Нейны, озарённое отблесками костра. Она снова услышала её хриплый, полный отчаяния и решимости шёпот: «Найди того, кто сможет выслушать. Даже если у него глаза цвета зимнего неба».
«Но он? Этот чужак? Этот книжный червь, для которого наш мир – лишь набор диких суеверий? – с горьким отчаянием подумала Айвика. – Нет. Никогда».
Однако тихий, настойчивый голос внутри, тот, что говорил с ней голосом земли, нашёптывал, что выбора у неё, возможно, и нет. Керемет уже пробудился. Она чувствовала его голодное дыхание в каждом порыве ветра, доносившего запах гари, в каждом шорохе ночи, в тревожном молчании птиц в лесу. Смерть купца Терентия, этого жадного и глупого человека, была не концом, а лишь началом. Первой каплей крови, что привлекла хищника. За ней последуют другие.
Она открыла глаза и подошла к старому сундуку, где хранились немногие уцелевшие святыни её рода: заговорённые пучки трав, камни с высеченными древними символами, берестяная грамота с молитвой, обращённой к духу леса. Среди этого немногого лежал ещё один шомырт, вырезанный из тяжёлого дуба. Не утка, а медведь – символ мощи, защиты и ярости.
Взяв его в руки, Айвика почувствовала прилив твёрдости. Медведь напоминал ей о силе её предков, о тех, кто не склонял головы перед чужими богами и чужими порядками.
«Если судьба сведёт нас снова, – мысленно пообещала она и тому москвичу, и самой себе, – я пойду к нему. Но не как нищая, просящая подаяния, и не как запуганная дикарка. Я пойду как хранительница знаний, которых нет у него. Как единственная, кто знает, с чем он столкнулся».
Она бережно положила деревянного медведя обратно и закрыла сундук. Завтрашний день таил в себе новые угрозы. А сегодняшняя ночь принадлежала духам. Айвика зажгла тонкую восковую свечу, села у окна и уставилась в темноту за стеклом, готовая к бою, которого не могла избежать.
ГЛАВА 3
Иван. Улики и предчувствия
Утро следующего дня началось для Ивана Родионова с привычного ритуала – приведения мыслей в порядок. Он аккуратно разложил на грубом столе свои письменные принадлежности: заострённые гусиные перья, берестяной пенал с сажей для чернил, песочницу, стопку дешёвой серой бумаги. Хаос и суеверия, бушевавшие за стенами его новой комнаты, должны были отступить перед строгой системой фактов, запротоколированных его рукой. Он твёрдо верил, что любая тайна, даже самая тёмная, боится света логики.
Его первым шагом стала съезжая изба – административное сердце Свияжска, низкое, слюдяное здание, пропахшее дешёвыми чернилами, потом и влажным деревом. За столом, буквально утопая в кипах свёртков и бумаг, сидел местный подьячий, Ефим. Тщедушный, болезненного вида человек с жидкой бородёнкой и бегающими глазами. Увидев Ивана, он засуетился, чуть не опрокинув чернильницу.
– Иван Родионыч! Рад приветствовать коллегу из первопрестольной! – затараторил он, пытаясь придать своему голосу почтительность. – Осторожность… благодарю вас! Севастьян Игнатьевич уже изволили предупредить о вашем прибытии и высоком доверии.
– Высокое доверие выражается в работе, Ефим, – сухо парировал Иван, усаживаясь на предложенную лавку. – Мне нужны все материалы по делу о смерти купца Терентия. А также земельные описи окрестных угодий, в особенности тех, что принадлежали ему, оспаривались или были недавно перераспределены.
– По делу Терентия… да чего там особого, Иван Родионыч. Составили акт, как положено. Опросили пару человек – приказчика его, Степана, да соседа. Все как один – Божья воля, внезапный приступ. Лекарь наш, Христиан Иваныч, подтвердил – удар. – Он беспомощно развёл руками. – А земли… земли его, конечно, обширны. Брал в аренду у Свияжского монастыря обширные лесные угодья за рекой, по направлению к бывшим черемисским стойбищам.Лицо Ефима вытянулось. Он заморгал ещё чаще, словно в его глаза попала пыль.
– Бывшим? Почему бывшим? Стойбища ведь не птицы, чтобы улетать.Иван уловил нотку неуверенности, лёгкую запинку в голосе подьячего.
– Да там, за рекой… недели три назад, ещё по снегу, небольшой пожар случился. Лесной. Ну, черемиса та, что там кочевала, и разбежалась кто куда. Места там теперь пустые, ничьи. Говорят, дух злой там теперь бродит, мстительный.Ефим заёрзал, понизив голос до конспиративного шёпота, хотя кроме них в избе никого не было.
«Пожар. Роща. Смерть купца, арендовавшего землю рядом. Всё слишком уж складно, чтобы быть простым совпадением», – мысленно отметил Иван, чувствуя, как в его упорядоченную картину мира вползает первая трещина.
– Кто ещё был в числе арендаторов тех земель? Кто мог быть недоволен Терентием? Конкуренты?
– Да кто его знает… – Ефим беспомощно развёл руками. – Конкурентов у него в пушном деле не было. Он один в тех лесах промышлял, скупал меха у тех самых черемис… – подьячий запнулся, подбирая слова, – …по ценам, скажем так, очень выгодным для себя. Мог, конечно, кто из своих, русских, позариться… но всё тихо было. Ссорился он на прошлой неделе только с рыботорговцем Гаврилой из-за места у пристани, так тот потом всем рассказывал, что Терентий скоро сгинет, что ему «синий знак на груди проставят».
– Что это за знак? И что означали слова Гаврилы?Иван замер. «Синий знак». То, о чём вчера вскользь упомянул воевода.
– Да так, брешут люди… Гаврилу уже допрашивали, он отбрехивается, говорит, что в сердцах сказал. А знак этот… – он махнул рукой, – бабьи сказки. Черемисские, мол, духи так метят тех, кто прогневил землю.Ефим побледнел.
Иван провёл за бумагами несколько часов, скрупулёзно изучая арендные договора и податные ведомости. Всё было чисто, слишком чисто. Как будто смерть купца была досадной, но рядовой помехой в делопроизводстве, которую поскорее замяли. Ни одного намёка на серьёзное расследование.
К вечеру, когда солнце уже клонилось к лесу, окрашивая небо в багряные тона, он отправился к самой лавке Терентия. Она стояла на отшибе, у самой кромки воды, приземистая и мрачная, с крепко заколоченными ставнями. От неё пахло затхлостью, прошлогодней пушниной и ещё чем-то сладковато-приторным, что резало нос. Иван медленно обошёл здание, внимательно вглядываясь в потрескавшиеся брёвна стен.
И нашёл. На задней стене, почти у самого фундамента, там, где тень лежала особенно густо, он заметил то, что искал. Свежий, неясный, но узнаваемый след. Не «колесо», как на груди, а нечто иное – несколько волнистых линий, пересекающихся под странными углами, нарисованных чем-то синим, словно выжженной глиной или странной краской. Знак был свежим, его не смыли ещё ни дожди, ни ветра.
Он присел на корточки, стараясь разглядеть символ в скудеющем свете. И в этот миг почувствовал на себе взгляд. Резкий, колкий. Он поднял голову.
Из-за угла соседнего амбара вышла она. Та самая девушка с рынка. Айвика. Она остановилась в нескольких шагах, её тёмные, бездонные глаза были пристально устремлены не на него, а на синий знак. В её позе читалась не просто настороженность, а глубокая, леденящая скорбь.
– Ты знаешь, что это? – тихо, почти шёпотом, спросил Иван, не поднимаясь с корточек. Он боялся спугнуть этот миг, боялся, что она снова растворится, как тень.
Она молчала, но по лёгкому, едва заметному подрагиванию её сжатых в кулаки рук он понял – знает. И это знание причиняет ей боль.
– Его душил не человек, – вдруг сказала она, и её голос, низкий и мелодичный, прозвучал в вечерней тишине как погребальный звон. – Его душила земля. За то, что он взял то, что не следовало. Он рубил деревья в священной роще, пускал их на свои амбары. Ты ищешь убийцу, москвич. Но убийцы нет. Есть месть. Та, что приходит, когда терпение мира кончается.
– Месть кого? – настаивал Иван, медленно поднимаясь во весь рост. Он попытался поймать её взгляд, но она смотрела куда-то сквозь него, в сторону тёмного, безмолвного леса на том берегу. – Духов? Леших? Твоего Керемета? Я не верю в сказки.
– Я не прошу тебя верить, – её губы тронула горькая усмешка. – Я говорю тебе, что есть. Это – предупреждение. Для других. Для тех, кто придёт на его место, кто захочет продолжить его дело. И для тебя, если не перестанешь копаться в том, что тебя не касается.
Впервые за весь этот короткий, напряжённый разговор Айвика перевела на него свой взгляд. В её глазах вспыхнул огонёк, в котором смешались странная жалость и холодное презрение.
– Ты не веришь в него, – она снова кивнула в сторону леса. – А он… он уже начинает верить в тебя. И он голоден. Очень голоден.
С этими словами она развернулась и пошла прочь, её тёмный силуэт быстро растворился в сгущающихся сумерках. Иван остался один на пустынной улице перед лавкой мёртвого купца. Вечерний ветер, поднявшийся с реки, донёс до него запах хвои, влажной земли и чего-то ещё… чего-то горького, пепельного.
И в этом запахе Ивану Родионову, выпускнику лучшей московской академии, рационалисту и скептику, вдруг почудилось дыхание чего-то древнего, тёмного, безжалостного и абсолютно реального.
Он посмотрел на синий, зловещий знак на стене, а затем на тёмную, безмолвную полосу леса на том берегу, где когда-то стояла священная роща. Его система дала сбой. Логика, его верный компас, трещала по швам, показывая на север, которого не существовало на карте.