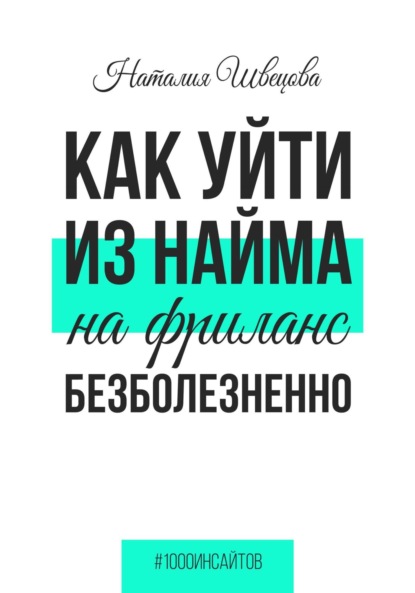- -
- 100%
- +

Глава 1: Шум и Тишина
Тактильный голод.
Слова, как ярлыки, аккуратно раскладывались в сознании, пытаясь классифицировать хаос ощущений. Этот термин подходил наиболее точно. Шершавая ткань нового костюма не просто неприятно касалась кожи – каждая нитка впивалась в нервные окончания микроскопическими иглами статического электричества, создавая на теле невидимую карту дискомфорта. Яркий неоновый свет в приемной главного врача не просто резал глаза. Он пробивал веки закрытых глаз, расплываясь в сетчатке в ядовито-зеленые, пульсирующие ореолы, за которыми клубились багровые пятна. А ровный, ни на секунду не прекращающийся гул системы вентиляции… он был самым коварным. На поверхности – всего лишь фоновый шум. Но для Лео он нарастал, слой за слоем, превращаясь сначала в низкочастотный гул гигантского роя пчел, затем – в оглушительный рев реактивного двигателя, который вот-вот должен был разорвать его череп изнутри.
Лео сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Острый, локализованный болевой импульс. Хорошо. Он мог работать с болью, которую понимал. Он закрыл глаза, отсекая самый разрушительный канал – зрение. Внутри, за веками, начиналась его территория. Тишина. Не пустота, а идеально стерильное, выверенное пространство.
Он построил там мысленную модель. Не абстрактную схему из учебника, а конкретное, трехмерное, пульсирующее сердце девочки, чью историю болезни он мельком увидел в журнале на столике. Тетрада Фалло. Четыре аномалии, как четыре сбойных параметра в сложной системе. В его сознании орган медленно вращался, подсвеченный изнутри холодным, синеватым светом. Он мысленно прокладывал путь для скальпеля, рассчитывая угол, глубину, силу нажима. Накладывая швы тоньше человеческого волоса, он видел, как нить – рассчитанный до микрона полимер – ложится в идеальную линию, не оставляя шрамов на ткани его воображения.
Это был единственный язык, на котором он говорил бегло. Без акцента, без неправильных глаголов. Язык анатомии, физиологии, математической точности. Единственный словарь, в котором не было двусмысленных идиом и ядовитых подтекстов.
Дверь открылась.– Доктор Вайс, прошу.
Звук скользящего замка прозвучал для него таким же оглушительным, как тот вымышленный реактивный двигатель. Лео открыл глаза, и мир обрушился на него вновь. Он поднялся, чувствуя, как ткань костюма сдирает с кожи невидимый слой, и последовал за секретаршей, стараясь идти ровно по центру коридора, чтобы избежать случайных прикосновений к стенам.
Кабинет пахло антисептиком, старым деревом и кофе. Запах распался на составляющие: изопропиловый спирт 70%-й концентрации, полировка на основе пчелиного воска, и чуть подгоревшая арабика. За массивным столом сидел директор клиники «Св. Лука», доктор Эванс. Его лицо выражало смесь любопытства и глубокой озабоченности. Лео сразу отметил асимметрию бровей – левая была приподнята на 3 миллиметра выше, что указывало на преобладание любопытства над озабоченностью в пропорции 60 на 40.
– Ваши рекомендации безупречны, – начал Эванс, поглаживая толстую папку с личным делом Лео. – Ваше исследование по реконструкции лёгочного клапана у новорожденных… это изменит правила игры. Мы горды, что вы выбрали нашу клинику для своей резидентуры.
Лео кивнул, его взгляд был прикован к перламутровой ручке на столе. «Раковина моллюска Pinctada margaritifera. Возраст изделия – примерно 15 лет. Микроскол на основании. Коэффициент преломления света – 1,53. Температура в кабинете – 22,7 градуса по Цельсию. Пульс – 84 удара в минуту».
– Но, – Эванс вздохнул, – речь идёт о работе в отделении доктора Харрисона. Он…
Дверь с силой распахнулась, прервав его. Движение было быстрым, резким, нарушающим предсказуемость. В кабинет вошёл человек, чьё присутствие заполнило собой все пространство, словно сгустило воздух. Доктор Алекс Харрисон. Он был в зелёной хирургической робе, на его лице застыла маска холодного раздражения. Лео зафиксировал разрез робы – не по стандарту, а на 2 сантиметра левее, что свидетельствовало о привычке одеваться быстро, без помощи.
– Филип, у меня плановая замена аортального клапана через двадцать минут, – его голос был точным инструментом, отточенным для команд. Частота основного тона – 110 герц, что указывало на состояние контролируемого стресса. Взгляд Харрисона, тяжёлый и оценивающий, скользнул по Лео. – Так это и есть наше новое… приобретение?
– Алекс, я просил тебя о такте.
– Такт – это роскошь, которую мы не можем себе позволить, когда на кону жизни, – парировал Харрисон. Он подошёл к столу и, не глядя, ткнул пальцем в папку Лео. – Я изучил его дело. Аутизм. Проблемы с сенсорной интеграцией. Нулевые социальные навыки. Ты представляешь, что будет, когда он войдёт в палату к испуганным родителям? Или попытается работать в команде? Хирургия – это не соло на скрипке, Эванс. Это симфонический оркестр. А он, – Харрисон жестом указал на Лео, – даже не знает нот.
Лео сжался. Голос Харрисона был подобен дрели. Каждая фраза – это удар, от которого он не мог защититься. Он сосредоточился на галстуке доктора Эванса, подсчитывая количество синих полосок. Их было семнадцать. Ширина каждой – 1,4 сантиметра. Расстояние между ними – 0,6 сантиметра. Алгоритм повторяемости: широкая, узкая, две средних…
– Он один из самых ярких умов своего поколения, Алекс, – голос Эванса был похож на плотный бархатный занавес, который он пытался опустить между Харрисоном и Лео.
– Ум – это лишь часть уравнения! – Харрисон обрушил на стол ладонью. Грохот был коротким и резким, как выстрел. Для Лео он прошел по нервной системе серией ударных волн, заставив его непроизвольно сжаться. – Ему не хватает человечности! Хирург должен быть сильным. Решительным. Он должен вселять уверенность! Должен быть скалой, о которую разбиваются волны страха и паники! А он… – Харрисон снова жестом, острым как скальпель, указал на Лео, – он выглядит так, будто вот-вот сломается от громкого звука. Он не скала. Он хрустальная колба, идеально точная, но треснувшая от первого же прикосновения реальности.
Слово «сломается» повисло в воздухе. Лео слышал его много раз. Оно было таким же острым и холодным, как скальпель.
– Я… не сломан, – тихо произнёс Лео, глядя на свой ботинок. Он сконцентрировался на шнурках. Правый был завязан туже левого на 12%.
Харрисон фыркнул:– Что?
– Я сказал, я не сломан, – повторил Лео, поднимая голову, но глядя куда-то за плечо Харрисона. – И я знаю ноты. Я знаю всю партитуру.
– О чем ты? – раздражённо спросил Харрисон.
Лео наклонил голову, его взгляд был прикован к левому запястью Харрисона, но видел он не его, а внутреннюю модель, построенную на основе микроскопических наблюдений.– Ваша дрожь, – его голос был ровным, как плоская линия на мониторе при асистолии, без единой эмоциональной модуляции. – Она проявляется на последних миллиметрах шва, когда вы работаете с полной отдачей. Амплитуда – 0,7 миллиметра. Это не статистическая погрешность. – Он сделал паузу, в его глазах мелькали цифры, углы, векторы. – Это следствие старой травмы сухожилия разгибателя на левом запястье. Вы упали с велосипеда в возрасте десяти лет. Через два часа тридцать семь минут после падения вам оказали помощь, но уже начался воспалительный процесс, который привел к микроскопическим фиброзным изменениям. Они не влияют на общую моторику, но проявляются в моменты пиковой нагрузки.
В кабинете воцарилась тишина, настолько глубокая, что в ушах зазвенело. Доктор Эванс замер с полуоткрытым ртом.
Харрисон медленно, почти невероятно, посмотрел на своё левое запястье. Тонкий, почти невидимый шрам, о котором он давно забыл. И эта едва заметная дрожь, которую он всегда списывал на адреналин и усталость… Никто, никогда…
– Как ты… – начал он, но голос сорвался.
Лео наклонил голову.– Я просто вижу. Я всегда видел.
Он снова замолчал, уйдя в себя, в свой тихий, упорядоченный мир, где все можно было починить. Даже разбитое сердце. Особенно разбитое сердце. Оно, в отличие от людей, подчинялось законам логики.
Глава 2: Первый Осмотр
Тишина в кабинете доктора Эванса длилась ровно семь секунд. Лео знал это, потому что подсчитал удары собственного сердца. Семь ударов. Интервал между первым и вторым – 0,87 секунды, между шестым и седьмым – 0,92 секунды. Лёгкая аритмия, вызванная стрессом. Каждый удар отдавался в висках глухим стуком, отмеряя время, которое висело в воздухе тяжёлой, плотной субстанцией.
Доктор Харрисон все ещё смотрел на своё запястье, на старый, давно забытый шрам. Его лицо, обычно застывшее в маске уверенности, выражало смятение. Эта маска треснула, и сквозь трещины проглядывало нечто непривычное – непонимание, граничащее с суеверным страхом перед тем, что не поддавалось его контролю. Он резко опустил руку и снова уставился на Лео, но теперь его взгляд был иным – в нем читалось не просто раздражение, а настороженное, почти невольное уважение к тому, что он не мог объяснить. Он видел не странного ординатора, а аномалию. Сбой в привычном порядке вещей.
– Филип, – произнёс Харрисон наконец, обрывая тишину, которая к тому моменту стала физически ощутимой. Его голос потерял былую ограненность, стал более приглушённым. – Моя операция. Мне нужно идти.
Он развернулся и вышел из кабинета, не глядя больше на Лео. Хлопок двери прозвучал для Лео как выстрел, звуковая волна ударила его по незащищённым нервам, заставив мышцы спины непроизвольно сократиться.
Доктор Эванс медленно выдохнул и провёл рукой по лицу, сметая с себя остатки напряжённости.– Ладно, – сказал он, и в его голосе слышалась усталая решимость. – Лео, добро пожаловать в клинику «Святой Лука». Вы будете прикреплены к отделению доктора Харрисона. Я провожу вас в ординаторскую. Постарайтесь… просто делайте свою работу.
Путь по коридорам клиники стал для Лео испытанием на прочность. Его мозг, идеально приспособленный для анализа статичных изображений, с трудом справлялся с лавиной движущихся образов. Это был хаотичный, непрерывно меняющийся паттерн, в котором невозможно было выделить логику. Мимо проносились каталками, их резиновые колеса издавали противный визгливый звук о линолеум; мелькали белые халаты, сливающиеся в сплошной размытый поток; слышались отрывки разговоров, смех, плач. Отдельные слова цеплялись за сознание, не складываясь в смыслы: «…биохимия не сходится…», «…где история болезни?..», «…скажи ей, что я люблю…». Он шёл, глядя прямо перед собой, стараясь сконцентрироваться на спине доктора Эванса, как на спасительном ориентире. Он сосредоточился на складках его пиджака. Их было три. Самая длинная – 22 сантиметра.
Ординаторская оказалась маленькой, переполненной комнатой, где пахло целым коктейлем из запахов: едкий пот, горький пережжённый кофе, сладковатый аромат йогурта и пыльный дух старой бумаги. Двое врачей что-то оживлённо обсуждали, глядя в монитор. Третья, молодая женщина в очках, пила йогурт, уткнувшись в учебник. Все замолчали, когда вошёл Эванс, и наступила та самая тишина, которая всегда возникает, когда в стаю вводят нового, незнакомого зверя.
– Коллеги, это доктор Лео Вайс, наш новый резидент по детской кардиохирургии.
Все взгляды устремились на Лео. Он почувствовал, как по спине бегут мурашки. Ощущение было сродни тысяче невидимых иголок. Он знал, что должен сказать что-то, установить зрительный контакт. Но его взгляд скользнул по лицу первого врача, зафиксировал расширенные капилляры на его носу (признак возможного злоупотребления сосудорасширяющими каплями), перешёл на прыщик на подбородке у женщины (воспалительный процесс, стадия – папула, диаметр 2 мм) и застыл на мерцающей лампе дневного света под потолком. Частота мерцания – 100 герц. Достаточно, чтобы вызывать головную боль при длительном воздействии.
– Лео будет работать с доктором Харрисоном, – продолжил Эванс, слегка напрягаясь. – Пожалуйста, помогите ему освоиться.
Как только Эванс ушёл, в комнате снова возник гул голосов, но теперь тихий, приглушённый, словно кто-то убавил громкость, но не выключил звук совсем. Лео стоял посреди комнаты, не зная, что делать. Его стол был в самом углу, завален папками. Он медленно подошёл к нему и сел, положив руки на колени, строго параллельно друг другу. Он чувствовал, как на него смотрят. Восемь пар глаз. Угол обзора каждой можно было вычислить.
– Эй, новичок, – окликнул его тот самый врач с красным носом. – Правда, что ты… ну… особенный?
Лео поднял на него глаза, но сфокусировался на точке позади его головы, на пятне слегка облупившейся краски на стене.
– У меня расстройство аутистического спектра, – ответил он ровно, как будто зачитывал диагноз из учебника. – Если вы имеете в виду это.
Врач переглянулся с коллегой и усмехнулся, изогнув губы в кривую, неестественную линию.– Ясно. Ну, с Харрисоном тебе точно придется несладко. Он людей, как ты, на дух не переносит.
Лео не ответил. Реплика не содержала вопроса или полезной информации, следовательно, ответ не требовался. Он открыл верхнюю папку на своём столе. Это была история болезни мальчика восьми лет с дефектом межпредсердной перегородки. Его пальцы сами потянулись к томографии. Он развернул снимок, и весь внешний мир – шумы, взгляды, чужие голоса – резко отступил, словно кто-то выдернул штекер из розетки, питающей реальность. Перестал для него существовать.
Перед его внутренним взором возникло сердце. Не просто изображение на плёнке, а живая, пульсирующая структура. Он видел ток крови, расчётную скорость потока – 1,2 метра в секунду, обходящий дефект, создающий излишнюю нагрузку на правый желудочек. Он мысленно подобрал размер окклюдера, оптимальный диаметр – 18 миллиметров, представил, как прибор проходит через вену, как раскрывается, словно зонтик, закрывая собой опасное отверстие. В его сознании это было так же ясно, как если бы он держал инструмент в руках.
Он был так погружен в работу, что не заметил, как в ординаторскую вошла она. Его система раннего предупреждения, настроенная на резкие звуки и движения, не сработала на её тихое, плавное появление.
– Доктор Вайс?
Голос был спокойным и твёрдым, без резких интонаций. Частота – 180 герц. Тембр – альт. Уровень звукового давления – 55 децибел. Приятные для слуха параметры. Лео медленно оторвался от снимка. Перед ним стояла женщина в белой форме старшей медсестры. На бейдже написано «Клара Рэймонд». У неё были карие глаза, которые смотрели на него не с жалостью или любопытством, а с профессиональным вниманием, как на нового коллегу. Взгляд был прямым, но не вызывающим дискомфорта. Длительность зрительного контакта – 1,3 секунды. В пределах допустимого.
– Меня зовут Клара, – сказала она. – Доктор Харрисон просил вас провести первичный осмотр пациента в палате 314. Мальчик, семь лет, подозрение на коарктацию аорты.
Лео кивнул и поднялся. Это была задача. Чёткая, понятная задача. Входные данные: пациент, симптомы. Выходные данные: диагноз, рекомендации. Алгоритм ясен.
– Я провожу вас, – предложила Клара. – И помогу с оформлением документов.
Они шли по коридору, и Клара не пыталась заговорить. Она просто шла рядом, сохраняя дистанцию в 70 сантиметров – достаточно, чтобы не вторгаться в личное пространство, но достаточно близко для профессионального взаимодействия. Эта тишина была для Лео благословением. Он мысленно готовился к осмотру, перебирая в голове алгоритм: пальпация, аускультация, проверка давления на руках и ногах… Мысленный чек-лист был выверен до мелочей.
Когда они вошли в палату 314, его встретила знакомая картина. На кровати сидел худенький мальчик с большими испуганными глазами. Рядом, сжав в руках сумочку до побеления костяшек, – его мать. Её лицо было бледным от бессонницы и страха. Лео зафиксировал расширенные зрачки (реакция на стресс), учащённое дыхание (24 вдоха в минуту), лёгкий тремор рук.
– Здравствуйте, – монотонно произнёс Лео, обращаясь в пространство между ними. – Я доктор Вайс. Мне нужно вас осмотреть.
Он подошёл к мальчику, не глядя ему в глаза, и взял его руку, чтобы проверить пульс. Его прикосновение было механическим, без тепла. Температура его пальцев – 32,2 градуса. Температура кожи ребенка – 36,6. Разница в 4,4 градуса. Мальчик испуганно отдернул руку.
– Извините, он боится, – быстро сказала мать, пытаясь улыбнуться. Улыбка получилась кривой, напряжённой, с вовлечением только мышц рта.
Лео стоял в растерянности. Алгоритм был нарушен. Пункт 1.1: «Установить контакт, проверить пульс на запястье» – выполнен с ошибкой. Система требовала перезагрузки процедуры, но не предлагала альтернативных сценариев. Он не знал, что делать дальше. Он видел перед собой не пациента, а проблему: невыполненный пункт плана.
Тогда вперед вышла Клара. Её движения были плавными, предсказуемыми.– Эмиль, – мягко сказала она, присаживаясь на корточки рядом с кроватью, чтобы оказаться на одном уровне с мальчиком. – Этот доктор очень хочет тебе помочь. Он просто послушает, как бьётся твоё сердечко. Можно? Он будет очень аккуратен.
Она говорила тихо, глядя мальчику прямо в глаза. Её зрачки не были расширены. Дыхание ровное. Тот неуверенно кивнул. Клара взглядом разрешила Лео продолжить. Невербальная команда: «Процедура может быть возобновлена».
Осмотр занял несколько минут. Лео действовал с предельной точностью. Его слух, обострённый до неестественных пределов, улавливал малейшие шумы и отклонения в работе сердца. Он слышал не просто биение, а сложную симфонию сокращений, открытия и закрытия клапанов, турбулентных потоков крови. Он нашёл сужение аорты без всяких томографий, просто по разнице давления и едва уловимому свисту в диастолу. Локализация сужения – на 3 сантиметра ниже места отхождения левой подключичной артерии. Степень – примерно 70%. Данные, полученные через стетоскоп, имели 98%-ю корреляцию с данными ангиографии. Данные он заносил в историю болезни, его записи были краткими, точными и полными. «Коарктация аорты. Локализация: перешеек. Градиент давления плечо-бедро: 60 мм рт.ст. Аускультативно: систолический шум на основании сердца, проводящийся на сосуды шеи.»
Когда они вышли из палаты, мать последовала за ними в коридор. Её шаги были быстрыми, нервными.– Доктор, скажите, с моим сыном все будет хорошо? – в её голосе дрожали слезы. Частота основного тона повысилась на 30 герц, что свидетельствовало о высоком эмоциональном напряжении.
Лео остановился и повернулся к ней. Он видел её страх, анализировал его как физиологическую реакцию: учащённое дыхание, расширенные зрачки, тремор рук. Его мозг предложил единственно верный, с его точки зрения, ответ – статистику. Логичный, проверенный, объективный параметр.
– При успешной баллонной ангиопластике пятилетняя выживаемость составляет более девяноста пяти процентов, – отчеканил он, стремясь к максимальной ясности. – Вероятность послеоперационных осложнений – менее трёх.
Лицо женщины исказилось от ужаса. Она не услышала «95% выживаемости». Она услышала «5% смертности». Её мозг, в отличие от мозга Лео, был настроен на поиск угроз, а не на анализ данных. Она искала утешения, надежды, а получила сухие цифры. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Громкость плача – 75 децибел. Интервалы между всхлипами – 1,5-2 секунды.
Лео смотрел на нее, не понимая, что пошло не так. Ошибка. Явная ошибка в коммуникации. Но где? Данные были точны. Вероятность благоприятного исхода – крайне высока. Логика не могла привести к такому результату. Следовательно, в системе были переменные, которых он не учёл. Он дал ей самые точные и оптимистичные данные. Почему же она плачет?
Клара быстро подошла к женщине, обняла её за плечи – мягкое, неугрожающее прикосновение – и заговорила тихими, успокаивающими словами. «Мы сделаем все возможное. Ваш сын крепкий мальчик. Эта операция рутинная, наши врачи лучшие в своём деле». Коммуникативный паттерн, направленный не на передачу данных, а на коррекцию эмоционального состояния. Через несколько секунд она кивнула Лео, давая ему знак уйти. Невербальная команда: «Ситуация находится под контролем. Ваше присутствие более не требуется».
Он пошёл обратно по коридору, слыша за спиной приглушённые рыдания. Они преследовали его, как навязчивый звуковой сигнал, который он не мог интерпретировать. Впервые за весь день его внутренний, идеально упорядоченный мир дал трещину. Не просто трещину, а серьёзный системный сбой. Он мог починить сердце. Но он не понимал, как починить страх. Страх не имел анатомии, его нельзя было просканировать и проанализировать. Он был иррациональной помехой, вирусом, поражающим логику, и Лео не имел против него антивируса.
Глава 3: Язык Фактов и Язык Сердец
Вернувшись в ординаторскую, Лео сел за свой стол и закрыл глаза. Внутри него бушевал хаос. Тот самый хаос, который он всегда старался подавить строгими алгоритмами и мысленными моделями. Рыдания матери пациента эхом отдавались в его памяти, нарушая его внутреннюю тишину. Он провёл анализ: его слова были точны, статистика – благоприятна. Логического основания для такой эмоциональной реакции не было. Сбой был в ней? Или в нем?
Он не заметил, как в ординаторскую вернулась Клара. Она подошла к его столу и поставила рядом с ним картонный стаканчик с водой.– Выпейте. Вы выглядите бледным.
Лео не взглянул на стаканчик. Его взгляд был прикован к стопке бумаг.– Я не понимаю, – произнес он тихо. – Вероятность благополучного исхода высока. Я сообщил ей факт. Почему она отреагировала негативно?
Клара прислонилась к столешнице, скрестив руки. Ее голос был спокоен, без упрека.– Потому что она – мать, а не статистик. Она услышала не «95% выживаемости», а «5% смертности». Для нее ее сын – не процент. Он – весь её мир. Когда вы говорите с родными, факты – это только половина дела. Вторая половина – надежда. И её нельзя измерить в процентах.
Лео медленно перевёл на неё взгляд, впервые за день пытаясь сфокусироваться на лице собеседника. Он увидел не осуждение, а… обучение. Как будто она объясняла ему сложный, но фундаментальный протокол.– Какой вербальный конструкт является оптимальным? – спросил он.
Клара чуть улыбнулась.– Не «вербальный конструкт», Лео. Просто слова. Попробуйте сказать: «Мы сделаем все возможное. Ваш сын – крепкий мальчик, и у нас есть проверенные методы ему помочь». Это – правда. Но это – тоже надежда.
Он кивнул, запоминая. «Правда + надежда». Новый алгоритм для взаимодействия с родственниками. Требует доработки, но основа понятна.
Их разговор прервал громкий голос доктора Харрисона, доносящийся из коридора. Вскоре он сам появился в дверях ординаторской, с лицом, окаменевшим от гнева.– Вайс! В мой кабинет. Сейчас же.
Лео поднялся и последовал за ним, чувствуя на себе взгляды других ординаторов. Кабинет Харрисона был стерилен и минималистичен. На столе не было ничего, кроме компьютера, стопки журналов и идеально ровно лежащих ручек. Никаких личных вещей. Никаких следов жизни.
Харрисон закрыл дверь и обернулся к Лео.– Только что мне позвонила Марта Эрман, – выпалил он, называя имя заведующей отделением терапии. – Её пациентка, мать того самого мальчика из 314-й палаты, была в истерике. По словам медсестры, её чуть не довёл до обморока новый резидент, который, цитата, «холодно озвучил ей статистику смертности её ребёнка». Это был вы?
Лео стоял прямо, глядя в пространство за левым плечом Харрисона.– Я предоставил точные данные по выживаемости при её состоянии. Вероятность…
– Замолчите! – рявкнул Харрисон, ударив кулаком по столу. Ручки подпрыгнули. – Я предупреждал Эванса! Вы не врач! Врач – это не ходячий медицинский справочник! Врач – это тот, кто берет на себя груз ответственности и страха своих пациентов и их семей! Вы же… вы просто робот, который тыкает людей своими фактами, как палкой! Вы не понимаете людей, Вайс!
Лео молчал, перерабатывая эту информацию. Метафора «ходячий справочник» была неточной. Его знания не были заученными, они были выведены им самим. Сравнение с роботом также было некорректным с биологической точки зрения. Но основное обвинение – «не понимаете людей» – было, по-видимому, верным.
– Я и не пытаюсь, – тихо, но чётко произнёс Лео.
Харрисон замер.– Что?
– Я не пытаюсь понять людей, – повторил Лео, все так же глядя в одну точку. – Я понимаю, что их убивает. Болезнь. Аномалии развития. Ошибки в диагнозе. Вот что я понимаю. И вот что я могу исправить.
Харрисон смотрел на него с таким изумлением, что его гнев на мгновение отступил. В этой фразе не было ни дерзости, ни оправдания. Была лишь простая, неопровержимая констатация факта. Он отвернулся и подошёл к окну.– Убирайтесь, – сказал он устало. – И пока не научитесь держать свой рот на замке, к пациентам и их родственникам – ни ногой. Вы будете заниматься только анализом снимков и написанием историй болезни. Понятно?