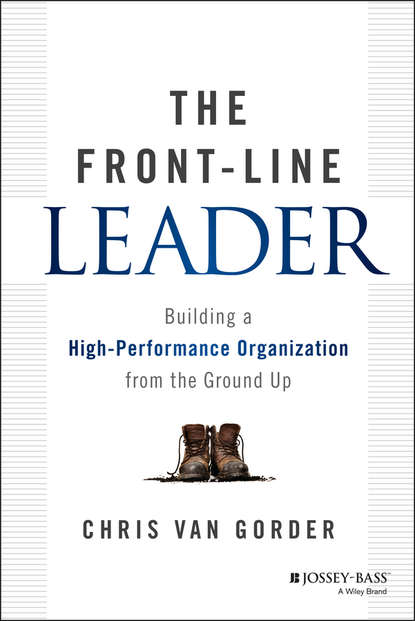Вне контура

- -
- 100%
- +

Глава 1
Игла для биопсии – это не просто иголка. Это метод пытки, который был достаточно излюблен в наших стенах. И это лишнее напоминание о том, что даже наши органы никогда не будут принадлежать нам.
– Не дергайся, птичка, – проскрипела Джи-Джи.
От неё пахло мятными леденцами и чем-то безнадежно старым. Так пахнет бумага, которая слишком долго лежала в сыром подвале. Мне не нравился этот запах, и я дышала маленькими вдохами, преимущественно через рот.
Старушечьи пальцы, узловатые и сухие, прижали мою правую лопатку к ледяному столу. Мурашки покрыли мое и без того измученное тело, и тошнота подступила к горлу, наполняя рот кислой слюной.
Я повернула голову, пытаясь хоть как-то улечься поудобнее на твердом холодном металле, и наблюдая за тем, как Джи-Джи раскладывает нужные инструменты на столике у моего лица.
У женщины были размеренные, уверенные движения, и она совершенно не беспокоилась о тени страха, который затаился в моих глазах. Наверное, это из-за того, что она была здесь уже слишком долго, и привыкла к хнычущим пациентам. К кричащим от ужаса. Умирающим. Джи-Джи была здесь всегда. Она помнила времена, когда у людей были айфоны и отпуск в Мексике, но сейчас она была просто частью этой стерильной пыточной.
– Как обычно, анестезии нет, – мимоходом сказала она.
– Да я бы больше удивилась, если бы она была, – хмыкнула я.
Я уже привыкла переживать все манипуляции без анестетиков. Кроме этого, на часть из них у меня была аллергия, которая могла отправить меня на тот свет. Поэтому лучше без них. Я потерплю. Девиз моей поганой жизни. Зато после наступает нездоровая эйфория от пережитой боли и ужаса, на которую я немного подсела, но никому и никогда в этом не признаюсь.
– Вдох, – скомандовала Джи-Джи.
Я вдохнула ровно перед тем, как игла проколола кожу, и устремилась в легкие. Медсестра не пыталась сделать эту процедуру менее болезненной. На секунду мне показалось, что еще немного и она начнет ее прокручивать во мне забавы ради.
– Больно же, – прошипела я сквозь зубы, борясь с желанием вытащить иглу и воткнуть ее кому-нибудь в глаз.
– Жизнь вообще штука болезненная, – философски заметила она, и я услышала характерный щелчок механизма внутри иглы. – А теперь не дыши.
В груди заскребла паника, страх разлился под кожей, заставляя меня замереть, и даже не моргать. И тут же, короткая, острая вспышка боли заставила меня на мгновение ослепнуть. Я представила, как мои легкие, розовые, чистые, не знавшие смога внешнего мира, испуганно сжимаются, сопротивляясь инородному предмету. Зубы у меня болезненно заскрипели.
Я начала считать про себя. Один, два, три, четыре… семнадцать.
– Мне плохо, Джи-джи, – я едва выдавила это из себя, чувствуя как лопаются сосуды в глазах. – Не могу… дышать…
– Тебе вообще нельзя дышать, – буркнула Джи-джи, даже не поднимая головы. – Совсем нельзя. И говорить тоже.
– Слишком долго… – прохрипела я из последних сил.
Старушка тихо ойкнула, спохватившись, и поспешно вытащила толстую иглу из-под моего ребра. В тот же миг грудь отпустило. Воздух ворвался в легкие неровно, и я зажмурилась, чтобы не закричать.
– Всё, – Джи-Джи отстранилась, аккуратно складывая образец ткани из моих легких в стеклянный медицинский контейнер. – Ты у нас сегодня герой. Почти не брыкалась.
Она погладила меня по голове. Жест был искренним, почти бабушкиным, но от него меня передернуло. Эта рука только что вонзила в меня сталь, а теперь дарит нежность. В этом и была вся суть нашего изолятора: нас любят как редких насекомых в банке. Кормят, гладят, но крышку не открывают.
– Прости, – сказала она уже мягче, копаясь в красном чемоданчике. – Зато получилось взять хороший образец.
– Ты… ты задумалась, – прошептала я, всё ещё переводя дыхание и осуждающе поглядывая на медсестру.
– Старость, милая, – хмыкнула Джи-джи. – Иногда мысли уходят дальше рук. Хорошо, что руки всё ещё помнят, что делать.
Я попыталась лечь на спину, но её пальцы, неожиданно крепкие для такого возраста, прижали меня к столу. Я скривилась, прикусив язык, чтобы не выдать грубость в адрес Джи-Джи.
– Если не хочешь дырку побольше, то постарайся не мешать моей работе, милочка.
– Не хочу, – сквозь зубы, честно призналась я.
– Вот и умница.
Она щедро намочила салфетку антисептиком, который ударил мне в нос, и плотно прижала к моей лопатке. Жжение было почти успокаивающим, не считая боли внутри, которая останется со мной на ближайшие пару дней.
– Чем займёшься сегодня вечером, Рейзел? – спросила Джи-джи между делом. – Не хочешь прийти ко мне на ужин?
Я моргнула, пытаясь выкинуть из странные и страшные процедуры, и засунуть туда приглашение на ужин. Чаще всего я старалась отказываться от таких посиделок, либо просить сходить со мной кого-нибудь из друзей. Поэтому сейчас я прибегну к первому варианту.
– Док принёс пару новых книг, – я слабо улыбнулась, пытаясь придать лицу искренность. – Хотела почитать. И я договорилась с Роджером встретиться в комнате отдыха. Может, перенесём ужин на завтра?
Джи-джи кивнула, не обидевшись ни на секунду.
– Перенесём. Вечера вообще для этого и существуют, чтобы их переносили. – сказала она спокойно, а после лукаво добавила. – Только если ты одолжишь мне эти свои книги. После прочтения, разумеется.
– Без проблем, – я облегченно выдохнула.
– Вот и договорились, – она похлопала меня по плечу, разрешая подняться.
Я начала сползать с высокого стола, и это оказалось отдельным видом искусства. Главное правило: не сгибаться в поясе и дышать так, будто воздух стоит денег. Дорогих денег.
– Осторожнее, – Джи-Джи подхватила меня под локоть, когда мои босые ноги коснулись пола. Кафель обжег ступни холодом. – Не хватало еще, чтобы ты шлепнулась в обморок и разбила мне тут всё оборудование. Док с меня шкуру спустит.
– Конечно, – прохрипела я, выпрямляясь. В боку пульсировала горячая, тупая точка, словно там забыли тлеющий уголек. – Оборудование важнее. Его сложнее заменить, чем меня.
Джи-Джи лишь цокнула языком, игнорируя мою колкость, и подошла к шкафчику. Стекло звякнуло. Она вернулась, держа на раскрытой ладони что-то маленькое, завернутое в шуршащий целлофан.
– На. Держи.
Леденец. Желтый, мутный, похожий на окаменевшую каплю смолы.
– Откуда? – я подозрительно уставилась на конфету, но взяла. Сахар здесь был редкостью. Обычно нас кормили безвкусной белковой пастой, которая по консистенции напоминала обойный клей.
– Из старых запасов, – она подмигнула, и морщины вокруг её глаз собрались в лучики. – Нашла в кармане зимней куртки. Ей, наверное, лет десять, но сахар не портится. Соси давай, поднимет глюкозу.
Я развернула фантик. Он прилип к конфете намертво, так что пришлось сунуть в рот вместе с кусочком целлофана. Вкус был химический, ядрено-лимонный, с отчетливым привкусом старой ткани и нафталина.
Самая вкусная вещь, что я ела за месяц.
Джи-Джи тем временем деловито прибирала инструменты. Она стянула окровавленные перчатки с таким звуком, с каким отдирают скотч от коробки, и швырнула их в бак для отходов.
– Рубашку поправь, – бросила она через плечо. – И вот еще что.
Она повернулась, вдруг став серьезной. Той самой «бабушкиной» теплоты как не бывало. Передо мной снова стоял сотрудник режимного объекта.
– Слейтон сегодня не в духе. С утра у него руки тряслись, пока он кофе наливал. Так что ты там не умничай особо, ладно? Отвечай коротко, по делу. Не дразни гусей.
– Я всегда сама вежливость, Джи, – усмехнулась я, натягивая кеды.
– Я серьезно, Рейзел. – Она подошла вплотную и поправила воротник моей больничной рубашки, жестко дернув ткань. – Времена сейчас… шаткие. Не давай ему повода отправить тебя в карцер, или увеличить дозировку седативов. Мне потом за тобой утки выносить, а я уже не девочка тяжести таскать.
Я посмотрела ей в глаза. Блекло-голубые, выцветшие, как небо над пустыней. В них было что-то, чего я не могла прочитать. Страх? Усталость? Или, может быть, жалость? То самое чувство, которое я ненавидела больше всего.
– Я поняла, – кивнула я, перекатывая леденец за щекой. – Быть паинькой. Не дышать глубоко. Жрать старые конфеты и радоваться еще одному дню.
– Вот и молодец. – Джи-Джи хлопнула меня по здоровому плечу, подталкивая к выходу. – А теперь брысь отсюда. Мне еще кварцевать тут всё после тебя.
Я шагнула к тяжелой металлической двери. Каждый шаг отдавался в ребрах глухим эхом.
– Джи? – я остановилась, уже взявшись за ручку.
– Ну чего еще?
– Спасибо за конфету. Правда.
Она фыркнула, отворачиваясь к раковине:
– Иди уже, горе луковое.
Я вышла в коридор, и дверь за спиной захлопнулась с тяжелым, герметичным чмоком, отрезая меня от запаха мяты и антисептиков. Во рту было сладко, а на душе паскудно. Почему-то именно эта забота, леденец из кармана старой куртки, пугала меня больше, чем игла в легком. Потому что игла – это просто боль. А леденец – это привязанность.
А привязываться к тюремщикам плохая примета.
В коридоре меня уже ждал почетный караул.
Слева подпирал стену Барнс. Огромный, рыхлый, с вечно сальным лбом и интеллектом переваренной макаронины. Я его ненавидела. Не той горячей, яростной ненавистью, с которой хочется вонзить вилку в глаз, а глухой и брезгливой. Примерно так ненавидят плесень в углу ванной.
Справа стоял Миллер.
Он стоял прямо, руки за спиной, лицо ничего не выражает. Никто не знал, что именно Миллер в прошлом месяце, когда меня заперли в карцере за отказ есть тухлую кашу, просунул мне под дверь половину своего бутерброда с сыром. Молча. После этого между нами установились доверительные отношения. Хоть мы и не особо часто разговаривали.
– Ну что, принцесса, – Барнс отлип от стены, звякнув ключами на поясе. – Выкачали из тебя всю дурь, или еще осталось?
– Для тебя всегда найдется, Барнс, – огрызнулась я, прижимая локоть к ноющему боку. – Но боюсь, твой мозг не переварит такую сложную субстанцию.
Он шагнул ко мне, раздувая ноздри. От него несло дешевым дезодорантом, которым он безуспешно пытался замаскировать запах пота и старых носков. Я было уже приготовилась защищаться, но голос Миллера быстро поставил Барнса на место.
– Отставить. Слейтон ждет. График, Барнс. Ты же знаешь, как он истерит, когда мы сбиваемся с графика.
Барнс заворчал что-то нечленораздельное, но отступил. Упоминание Слейтона действовало на него как ведро холодной воды на бешеного пса.
– Вперед, – скомандовал Миллер.
Он слегка подтолкнул меня в спину. Не сильно. Едва ощутимо. Его пальцы на секунду задержались на лопатке чуть дольше, чем нужно по инструкции. Хотя по инструкции нас вообще запрещено было трогать. Мы же сокровища увядающего мира. Фе.
Мы пошли по коридору. Барнс топал впереди, сотрясая пол, мы с Миллером следом. В такт шагам в моем боку просыпалась боль. Раз. Два. Три. Я смотрела на широкий, обтянутый форменной рубашкой затылок Барнса и думала о том, как же я устала.
Господи, как же я чертовски устала.
Это была не та усталость, когда ты перетаскал мешки с песком и хочешь спать. Нет. Это было чувство, будто меня стирают ластиком. Медленно. С каждым днем я становлюсь всё прозрачнее, все менее я остаюсь мной.
Двадцать лет.
Двадцать гребаных лет меня режут, колют, сканируют, заставляют бегать по дорожке, решать головоломки, глотать таблетки, от которых потом три дня мерещатся пауки на стенах. Я не человек. Я набор органов в кожаном мешке. Я очередной материал.
– Эй, зубочистка, шевели поршнями! – рявкнул Барнс, не оборачиваясь.
Я хотела послать его к черту, но сил не было. Лимонный леденец Джи-Джи уже растаял, оставив во рту кислый привкус разочарования.
Миллер, идущий сбоку, чуть сбавил шаг, поравнявшись со мной. Его лицо оставалось бесстрастным, он смотрел строго перед собой, но я услышала тихий шепот, едва различимый за гулом вентиляции:
– Еще немного, Рей.
Я едва заметно кивнула. Еще немного, и я вернусь в свою комнату, потом встречусь с Роджером, потом пойду спать. А утром все сначала. А потом еще немного и снова все сначала. И так день за днем.
Мы проходили мимо бронированных окон, за которыми виднелся внутренний двор, обычный серый бетонный колодец, в который два раза в день нас выгоняли подышать воздухом. Там, внизу, кто-то вез каталку с накрытым простыней телом. Очередной неудачный эксперимент? Или просто кто-то умер от скуки?
Я чувствовала себя заводной игрушкой, у которой пружина вот-вот лопнет. С громким, металлическим звоном. Прямо внутри грудной клетки. Мне хотелось упасть. Прямо здесь, на этот идеально натертый линолеум. Свернуться клубком и сказать: «Всё. Финита. Разбирайте меня на запчасти, делайте суп из моих костей, мне плевать. Я больше не сделаю ни шагу».
Но я сделала шаг. И еще один.
Потому что инстинкт выживания это проклятая, въедливая зараза, похуже любого нейровируса. Он заставляет тебя ползти, даже когда души уже нет, а осталось только тело, которое боится боли.
– Пришли, – Барнс остановился у двери с табличкой «Доктор А. Слейтон. Главный вирусолог».
Он набрал код на панели. Замок пискнул и щелкнул.
– Давай, вали внутрь, – Барнс ухмыльнулся, обнажая желтые зубы. – Надеюсь, он выпишет тебе клизму побольше. Для прочистки мозгов.
Миллер молчал. Он встал на пост у двери, приняв стойку «смирно». Но когда я проходила мимо него, он моргнул. Один раз. Медленно.
Я набрала в легкие воздуха и толкнула тяжелую дверь.
Кабинет встретил меня тишиной, которая была такой плотной, что ее, казалось, можно было резать скальпелем. Доктор Слейтон не поднял головы. Он сидел, сгорбившись над столом, и свет настольной лампы выхватывал только его тонкие, белые руки, с россыпью старческой гречки на тыльной стороне ладоней.
– Закрой дверь, Рейзел, – произнес он, не оборачиваясь. Голос у него был бесцветный, как вода в луже.
Я толкнула дверь пяткой. Щелчок замка прозвучал за спиной, отрезая путь на свободу.
– Садись.
Я опустилась на стул, стараясь не тревожить бок. В кабинете пахло не только спиртом, но и чем-то горьким. Похоже на горелый кофе и застоявшийся страх. Доктор наконец развернулся. Его лицо выглядело так, будто его вылепили из плохого воска и забыли выставить на холод: кожа обвисла, глаза лихорадочно блестели.
– На тебя жалуются, – начал он без предисловий. – Барнс говорит, ты дерзишь. Как и охрана на улице. А ассистенты в столовой сообщают, что ты пыталась спрятать вилку. Опять.
– Вилка это отличный инструмент для чесания спины, док, – я попыталась выдавить ухмылку, но она вышла кривой.
Заканчивай, док. У меня в планах здорово отоспаться в ближайшие пару часов.
– Перестань, – он ударил ладонью по столу. Не сильно, но бумаги подскочили. – Ты не понимаешь, в каком зыбком положении мы все находимся? Ты мой самый ценный проект, Рейзел. Мое наследие. Но даже мое терпение имеет границы. Если совет Директората решит, что ты стала неуправляемой… они могут перевести тебя в Сектор Б.
Я похолодела. В Секторе Б содержались «овощи». Те, чьи личности вирус стер в мелкую крошку, оставив только вегетативные функции. Или те, кто доставляют слишком много проблем в простых изоляторах. Например, как я.
– И не надейся сегодня на встречу с Роджером, – добавил он, чуть мягче, но в этом «мягче» было больше угрозы, чем в крике. – У него была тяжелая пункция. Сейчас он спит и не нужно его беспокоить. Тебе тоже нужен покой.
– Покой, – я повторила это слово, пробуя его на вкус. – Это когда тебя не тыкают железками каждые четыре часа? Или когда ты не думаешь о том, что происходит за нашими стенами?
Я кивнула в сторону глухой стены, за которой, по легенде Слейтона, бушевала вечная тьма.
– Там ничего нет, Рейзел, – устало выдохнул он. Он повторил это в миллионный раз, как заезженная пластинка. – Руины. Гниль. Те, кто заражен HBH, превратились в животных, лишенных искры божьей. Они рвут друг друга на куски за глоток грязной воды. Ты хочешь туда? Хочешь, чтобы тебя заживо сожрали существа, которые когда-то были людьми, но теперь не помнят собственного имени?
Он подался вперед, и я увидела, как в его зрачках отражается свет лампы.
– Там только смерть, – он ткнул в меня пальцем и продолжил. – Здесь мы поддерживаем жизнь. Пусть и такую скромную. Понимаешь?
– Понимаю, – соврала я, глядя на его дрожащий мизинец.
Но я не понимала. Разве за двадцать лет уже нельзя было придумать какое-нибудь решение? Может его просто нет, а мы тут просто прохлаждаемся, играя в спасителей вселенной? Во всех изоляторах были дети с иммунитетом, с нами работали десятки, или даже сотни врачей, но мы так и не приблизились к разгадке.
– Можно мне забрать книги? Вы вчера сказали, что привезете новые, – надо сбежать из этого душного кабинета как можно скорее.
Слейтон потер переносицу.
– Да. Забирай. Они на краю стола. Я отобрал то, что тебе может быть интересно. Там есть журналы со старыми фотографиями городов, и фото того, что стало с ними сейчас. Посмотри на них и вспомни, почему ты должна быть благодарна за то, что находишься здесь.
Я встала. Ноги были ватными, в боку стреляло при каждом движении, и мне срочно нужно принять горизонтальное положение. На краю стола лежала пара пухлых томов в дешевых обложках и ворох глянцевых журналов, края которых обтрепались от времени.
– Кстати, я тебя вызвал, чтобы сообщить, что через неделю ты едешь в другой изолятор. Будь добра собрать вещи к утру вторника, – добавил он, возвращаясь к своим бумагам.
– Но мы же только недавно приехали сюда, – заныла я.
Провести несколько дней в кабине темного, душного грузовика, с остальными такими же бедолагами, мне совершенно не хотелось.
– И? – док выразительно поднял бровь, намекая, что разговор окончен.
С прискорбием выдохнув, я сгребла книги в охапку. Стопка была тяжелой и неудобной. Книги норовили выскользнуть, и я прижала их к груди, как раз там, где под кожей ныла свежая рана от биопсии.
– Свободна, – Слейтон снова отвернулся к монитору. – И постарайся не сильно нагружать себя несколько дней. Завтра можешь не идти на зарядку.
– Хорошо, – покорно согласилась я.
Я вышла в коридор, прижимая добычу к себе. Миллер проводил меня коротким взглядом, Барнс что-то хохотнул вслед, но я не слушала. Они тащились за мной мертвым грузом, как будто не зная, что отсюда невозможно сбежать. Но мне было все равно, я погрузилась в собственные мысли. Пусть следят сколько хотят, мне нечего скрывать.
Мне нужно было добраться до своей комнаты, и закрыться от этого мира хоть ненадолго. Коридоры изолятора казались бесконечными кишками, которые медленно переваривали меня после процедур. Едва за спиной лязгнул замок, я рухнула на узкую кровать.
Бок горел. Биопсия напоминала о себе каждым вдохом, словно внутри застрял раскаленный гвоздь. Я свалила стопку журналов на колени. Глянцевые страницы были холодными и скользкими. Я начала лениво перелистывать «National Geographic» двадцатилетней давности. Картинки с зелеными джунглями и какими-то синими птицами казались галлюцинацией.
И тут из-под разворота с рекламой швейцарских часов выскользнули два листа.
Это была не журнальная бумага. Плотная, желтоватая, с тиснением в верхнем углу. Я замерла. В изоляторе такие вещи просто так не валяются. Слейтон, старый маразматик, видать, совсем поплыл мозгами от своего кофе, раз загреб официальную переписку вместе с моим чтивом.
Я развернула первый лист. Мое имя, которым подписывали все мои анализы, бросилось в глаза, как пощечина. «Субъект 01-Alpha-RR00Q».
ПИСЬМО №93/ter07: ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗИ ДИРЕКТОРАТА К.О.Н.Т.У.Р. – ДОКТОРУ А. СЛЕЙТОНУ
«Доктор Артур Слейтон, ваше последнее требование о дополнительных поставках антибиотиков, расходных материалов и фильтров для Блока 7 отклонено. Директорат считает нецелесообразным тратить ресурсы на подопытных изолятора, которые за 20 лет не выдали стабильной сыворотки. Ситуация в Секторах накаляется. Альянс Картелей официально прервал транзит через Равнины. Лидер так называемого "Картеля Железного узла" мистер Зеро – прислал голову нашего эмиссара в мешке с углем. Они больше не боятся вируса, они научились жить с ним на периферии. Если в течение 30 дней "Субъект 01-Alpha-RR00Q" не продемонстрирует показатели, пригодные для массового синтеза антител, Директорат свернет программу. Изолятор будет переведен на автономное (нулевое) обеспечение. Проще говоря, мы выключим свет, переведем персонал в другие изоляторы, а субъекты будут изолированы и утилизированы в крематории. Ваши "дети" являются единственной картой, которая еще позволяет нам торговаться с Картелями. Не подведите нас».
Я перечитала письмо трижды. Руки начали мелко дрожать, заставляя бумагу противно шуршать. «Торговаться с Картелями». «Выключить свет». Мир снаружи не был кладбищем. Там были «Равнины», там были «лидеры», там была чертова торговля людьми. И мы. Роджер, я, Томми, Ники, и все остальные дети, были просто товаром, который залежался на полке.
Второй лист был короче. На нем не было гербов, только небрежный, косой почерк. Письмо от старого коллеги или куратора.
ДОКТОРУ А.СЛЕЙТОНУ
«Слейтон, хватит играть в бога. Ты и сам знаешь, что репликация вируса в тканях Рейзел прошла точку невозврата. Она не иммун в классическом смысле, ЕЕ КЛЕТКИ НЕВОЗМОЖНО ВОСПРОИЗВЕСТИ В ЛАБОРОТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, она просто носитель мутации, с которой нечего взять, хоть ее иммунная система и совершенна. Когда Директорат узнает, что ее мать умерла не от инфекции, а от того, что ты намеренно ввел ей двойную дозу нейротропного штамма HBH на восьмом месяце, чтобы посмотреть на эффект в плаценте… тебя не просто уволят. Тебя отдадут Картелям на опыты. Твоя "принцесса" больше не сможет тебе помочь в разгадке НВН и его биохимических импульсов. Как бы ты ее ни ограничивал в развитии, она ходячая бомба. Если она сорвется, изолятор станет братской могилой раньше, чем охранники успеют достать пушки. Слей концы, Артур. Пока Директорат не прислал зачистку».
Я смотрела на эти строчки, и буквы начали расплываться, превращаясь в черных пауков. Я медленно скомкала листы и запихнула их под матрас. Бок больше не ныл. Теперь внутри меня, где-то за ребрами, проснулось что-то другое. Холодное. Тяжелое.
Агрессия. Чистая, осознанная агрессия. Я чувствовала, как внутри меня что-то умирает. Не так, как умирают клетки под воздействием вируса, тихо и закономерно, а с треском, как рушится столетнее дерево, подмытое паводком.
Я смотрела на свои руки и видела в них не просто плоть, а продукт инженерной мысли. Каждую мою вену, каждый вдох, который сейчас давался с таким трудом из-за биопсии, Слейтон считал своей интеллектуальной собственностью. Он не просто вырастил меня. Он меня сконструировал, предварительно убив оригинал.
Моя мать. Слейтон всегда говорил, что она была его лучшим другом. Что он пытался ее спасти. Что ее смерть была «трагической случайностью в мире, объятом хаосом».
Всю жизнь я думала, что я ошибка природы, выжившая вопреки всему. Оказалось, я лабораторный проект, выживший по расчету маньяка. Слейтон играл роль спасителя, кормил меня сказками о «внешнем аде», а сам был дьяволом, который этот ад и срежиссировал. Каждый его «заботливый» жест, поправленный воротник, новая книга, сочувственный вздох, теперь казались мне движениями мясника, который проверяет, достаточно ли жира нагуляла его любимая свинья перед забоем.
Слейтон сказал, что там, за стенами, нет ничего, кроме смерти. Что ж. Похоже, смерть жила здесь всё это время. Она носила белый халат и поила меня кофе. Я села на кровать, уставившись в стену. Тишина в комнате больше не казалась мне скучной. Она казалась затишьем перед бурей.
Меня начало трясти. Не от холода, в комнате было душно, как в гробу, а от омерзительного осознания того, что всё мое прошлое было декорацией.
«Слей концы, Артур» пронеслось у меня в голове.
Эти слова из второго письма пульсировали в висках. Директорат хочет меня утилизировать, потому что я «плохой актив». Слейтон хочет меня спрятать или уничтожить, чтобы скрыть следы своего преступления. Никто из них не видел во мне человека.
– Ну давай, – прошептала я в пустоту, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. – Попробуй слить.