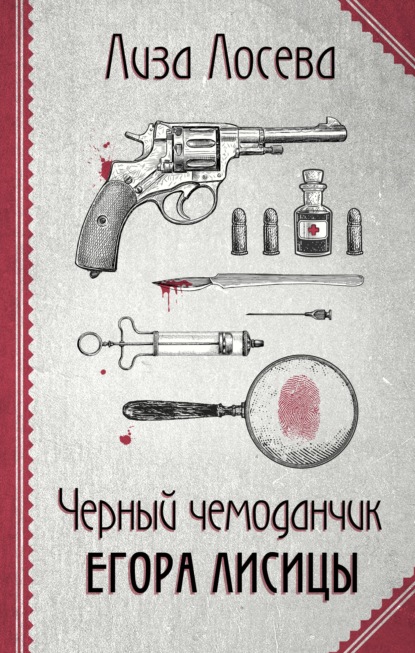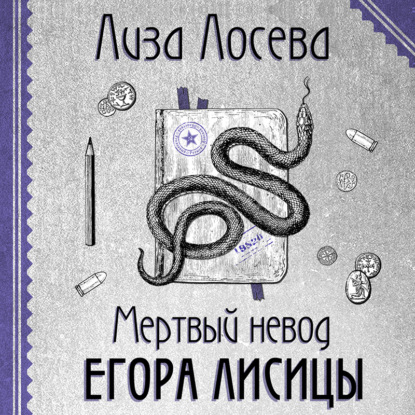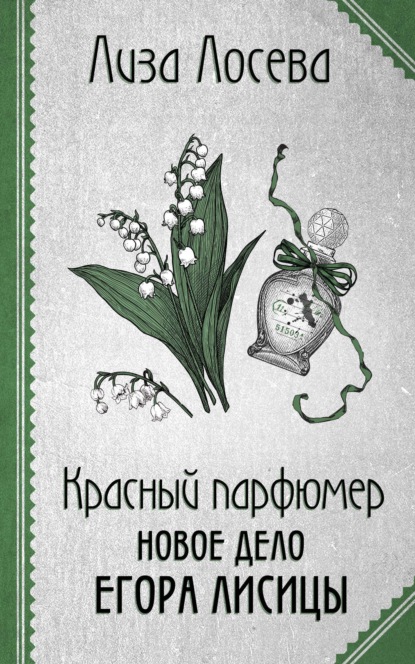Мертвый невод Егора Лисицы
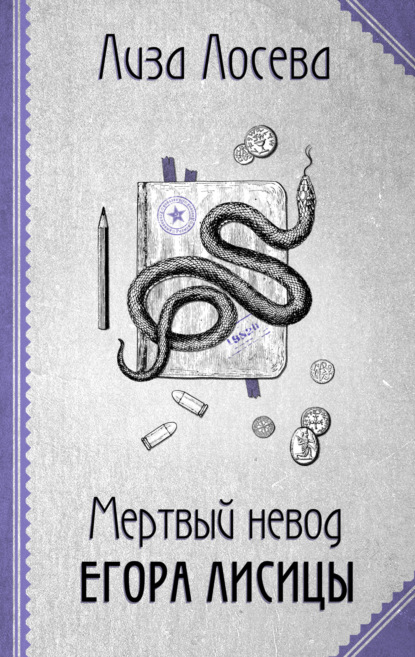
- -
- 100%
- +
– Да-да, тезка эсера, убийцы министра, террориста[29], – усмехнулся Псеков. – Не надумали сыграть?
Некоторую симпатию вызвал конторщик – Нахиман Бродский. Брюнет, из тех, кому приходится бриться дважды в день, твердое рукопожатие. Сутулится, спортивный свитер.
– Присоединяйтесь, – предложил Бродский, передвигая фишку. – Правила так просты, что, считай, их и нет! Всего лишь пройти все клетки. Если, к примеру, наступили на клетку гуся, который вперед смотрит, то следующий ход – ваш. А вот если занесло в кабак, стало быть, пропускаете!
Под общий смех звякнуло стекло, выпили. Псеков под наливочку для аппетита подвинул миску с маслинами.
Перебирая фишки, я прикидывал, как подойти к нужному в разговоре.
– Представьте, меня сегодня отправили за провизией к мертвецу, – начал я.
– А, Петр-мертвец? – фельдшер крутил в руках кости, прикидывая бросок. – У них действительно хорошее молоко и сметана. Но, видите ли, имеет место некоторая афера. Петр заведует сепараторным пунктом по перегонке молока. Ему молоко сдают в порядке налога. Давайте, ваш ход!
– Этот его сон – летаргический энцефалит[30], сонная болезнь. Очевидно, организм был ослаблен, скажем, после «испанки». Стоило бы растолковать обывателям, – я обращался к фельдшеру.
Бродский хмыкнул, все переглянулись. Рогинский налил себе из графинчика.
– Уж лучше вы. – Сделал глоток и добавил с улыбкой: – Предложите товарищу Турщу свои соображения, он включит вас в программу с лекцией. – Улыбаясь, он собирал вилочкой маслины к краю тарелки.
– Наш комиссар, я имею в виду товарища Турща, не покладая рук борется с суевериями и метафизикой, – сказал Псеков.
Фразу про мертвеца я пустил наугад, но попал, заговорили о Турще. А там недалеко и до его отношений с Рудиной.
– Кстати, сам он что за человек, местный? – Я чувствовал азарт, разговор повернул в нужное мне русло.
– Сын гувернантки. Избалованный, злой мальчик, mauvais type. Воображает себя карбонарием, – вступил Астрадамцев, – В то же время пуп-то у него как у всех завязан. Обычный человек.
– Жаден, беспринципен, ловчила и развязный хам, вот что такое ваш Турщ, – добавил Псеков. Бродский, чуть качнув головой, сверлил его взглядом, но Псеков упрямо продолжил: – Нахватался лозунгов, как пес репейника, вот и вся его революция.
– Странно, он производит впечатление человека, который болеет за дело, и к тому же вы говорили, он принял близко к сердцу судьбу погибшей, выходит, не чужд сострадания, – произнося это, я смотрел на фельдшера, но ответил мне Астраданцев:
– Еще бы, метил ее себе в конкубины[31], – пробормотал он себе под нос.
– Бросьте, – поморщился Бродский. – Нехорошо. Девушка ведь умерла. К тому же гнусно повторять сплетни.
– Гражданин с портфелем и сам не чурается говорить за спиной, – возразил Псеков и повернулся ко мне. – Но мы в его дела не вмешиваемся, соблюдаем гигиену. Что вы задумались, ходите.
Пока в перерывах между партиями шел разговор общего рода, я ждал. Первым не выдержал Астраданцев:
– Так вы разобрались, от чего она умерла?
– Вполне. Если коротко – сердечный приступ. Выяснилось, что у нее были проблемы с сердцем. И кто-то ее испугал.
– Может, животное, кабан? Здесь водятся.
– И кабан завернул тело в саван? Если уж и вспомнить животное, то скорее мифическое – зме́я, – вставил Псеков. Я вспомнил бормотание Терпилихи.
– Дух-обольститель, который ходит к вдовам? Он вроде миролюбив, требует только плотских наслаждений, – возразил фельдшер.
Я поинтересовался, насколько в ходу здесь это суеверие.
– Бабьи сказки, но весьма популярны, – хмыкнул Бродский. Он курсировал между игральным столиком и буфетом с закусками. За окнами коротко застучал дождь. Анна встала, чтобы задвинуть шторы.
– Нельзя все же отрицать явления, которые наука не может объяснить, – подал реплику Рогинский.
– Как вам сказать, – протянул Псеков. – Народ тут суеверный, раздумчивый, охотно верит в волхование, чудеса, особенно рыбачьи станицы подвержены. А вот казаки, те менее. Люди служилые, военные, да и в степи мало мест, где воображение может запутаться.
– Не скажите, казаки домовому кашу ставят, это как, по-вашему? – кинул Бродский.
– Положим, ставят – еще рюмочку, не откажите, – главный морок, однако идет со стороны лиманов. Черти, русалки…
– А что вы скажете вот об этом? – я кинул на стол монетку-амулет с изображением змей. – Нашел при осмотре вещей. Тоже суеверие?
Монетка покатилась по столу между рюмок.
– Что это? Амулет? – Псеков прихлопнул ее ладонью.
– У нашей передовой общественницы, дамы нового типа? Вряд ли, – возразил Астраданцев, трогая ногтем неровные края зеленой меди. – Случайность или дал кто-то.
– Материя, в которую завернули тело, тоже случайность? – продолжил я. – Или это… – я поискал слово, – ритуал, обряд? Символический знак?
– Насколько мне известно, это был транспарант, – сказал Бродский. – Если и ритуал, то новый, совдэповский…
– Вы лучше краеведов расспросите, – перебил Псеков, потянувшись за фишками. – Они тут копают, может, знают и про обряды.
– Благодарю, воспользуюсь советом.
Игра продолжилась. Общее молчание нарушали лишь шум дождя, звяканье рюмок и стук фишек. Псеков, встав, отошел от стола, он и жена фельдшера Анна о чем-то негромко говорили в стороне.
– Слухи пошли после того, как Австрияк привез тело в церковь, привлек внимание, – неожиданно заговорил фельдшер, будто прочитав мои мысли. – Ворвался, тело нес на руках…
– После заговорили о начерченных краской знаках на теле. Да и мало того, якобы вокруг, на отмели тоже! Нонсенс. Будь они сто раз мистические, эти знаки. Песок кругом, сами видели. Какая уж там краска, – вставил Бродский и добавил: – Гадючий кут – место известное. Там бычок хорошо идет.
– Но он все же в стороне от дорог. И ходят там сейчас редко?
– Много змей в эту пору, – пробормотал фельдшер, отклоняясь от стола и окликая жену. – Так, о чем я? Значит, ворвался в церковь. Тело нес на руках. Выкрикивал.
– Из Апокалипсиса, – вставил Астраданцев.
– «И упала с неба красная звезда, имя той звезде Полынь, и стали воды красны», – дополнил фельдшер.
Круглый, низенький, нараспев декламируя, выглядел он комично.
– Понимаете? Понимаете, что их смущает? В тексте говорится о звезде, и именно красной. Опять же нагон воды, багрецовые водоросли.
– Бросьте! Водоросли цветут постоянно. Вспомните год при Марсовой звезде[32]. – Бродский раскладывал фишки.
Анна облокотилась о спинку стула, на котором сидел Бродский.
– И еще, как нарочно! На соседнем хуторе, Узяке, младенец родился со всеми зубами.
– И разлива такой силы, как в ту весну…
– Однако же в год кометы сильных волнений в здешних местах не было. Ожидание светопреставления, не без этого. Но обошлись без эксцессов, как вот секты, по примеру Братца Иоанна, да хоть… в Москве.
– Так то на Москве, там к заутрене звонят, а тут звон слышат.
– Все же Марсову звезду у нас не жалуют.
Реплики бросались в такт стуку игральных костей, как хорошо заученная партия.
– Теперь это «символ конечного торжества идей коммунизма» – звезда-то пятиконечная, – насмешливо отчеканил Бродский. – А уж кому она принадлежала до новой власти – известно. Недаром сказано: и даст им начертание на челах их[33]… Вот вам и готово – источник предрассудков и страхов.
– Не поверите, соседка моя – у нее один из товарищей комитета размещен – уговорила его вынести шапку со звездой на улицу! И плачет, и лается, не дает в шапке в дом войти. В общем, и до краевого начальства дошло, прижали, видно, Турща. – Астраданцев поглядел на меня.
– Девушку жаль, хочется разобраться в ее деле, – я ушел от конкретного ответа. – С кем еще она близко общалась? Вот к вам, например, – я повернулся к Астраданцеву, – заглядывала на почту?
– На почте все бывают, – опустил глаза. – А она чернила, карандаши хорошего качества, бывало, просила придержать для нее. Я не отказывал.
– А в тот день, когда она пропала, заходила? Может, накануне или наоборот, позже к вечеру?
Стук фишек замолк. Астраданцев смешался, оглянулся, позвал девчонку дать чистый стакан – промочить горло.
– Это что же, полицейский допрос, гражданин любезный? – коверкая на французский манер слово «гражданин», Астраданцев потянул себя за клок волос, падающий на лоб.
– Я ведь тут человек чужой. – Немного «прищуриться» не мешало, сбавить тон. Недоверие ко мне понятно. С новой властью тут обходились как с пьяным, старались не раздражать, но и содействовать не спешили, не желая будить лихо без надобности. – Меня, сами понимаете, бросили сюда разобраться. – Я продолжал не торопясь, подвинул рюмку Псекову. Тот сидел, скрестив руки. – А как разберешься, не понимая всей обстановки? Тогда к крыльцу мать Рудиной приходила, верите, не мог и в глаза ей посмотреть.
– Товарищ доктор все же лицо на службе, и наш общественный долг – помочь, – неожиданно поддержал меня фельдшер Рогинский.
– Именно речь о помощи, – подхватил и я. – Ведь и вы могли что-то видеть? Не придать значения.
– Каюсь, недопонимание, двусмысленные реплики бросаете. – Астраданцев потянулся к фишкам.
– Да разве упомнишь? – флегматично заметил Псеков. – Я не запамятовал, что с утра сегодня было. Ваш ход, Егор Алексеевич.
Машинально я двинул кости.
– Клетка пятьдесят восемь символизирует смерть, вашего гуся зажарили и съели, игрок возвращается в начало пути. – Псеков смешал фишки.
– Гуся бы! Я бы съел! – Бродский поднялся, потирая руки. – Давайте уж закусим!
Компания зашевелилась, заговорили оживленнее.
– У Анечки есть борщ с начинкой. Это чудо какой борщ! Берут мелко нарезанные куриные потроха, желудочек… совсем немного, от одной курицы, ох! – говорил, жмурясь и смакуя, фельдшер. – Хотя на ночь, пожалуй, тяжело?
– Здесь говорят: «з на́чинкой», – вступил Бродский.
– На второй день он особенно хорош! А уж если раздобыть сметаны!..
– Да что же вы рассказываете, а не накрываете!
Рогинский крикнул. Кухонная девчонка и Анна внесли тарелки, зазвенели приборами.
– А вам запеканочки[34]. И не откажите, покурим на улице, на воздухе. У меня свой табак, сажаю. – Фельдшер налил нам по рюмке, и мы вышли на крыльцо.
В саду за домом я разглядел силуэты, похожие на высокие шапки, – ульи. От папиросы я отказался. Рогинский не настаивал, закурил сам.
– Держу пчел, – пояснил он. – А вот там курятник, – в темноте был слышен шорох кур, – яичко, если взять еще теплое, это!.. Сад. Сейчас не так видно, ранняя весна, но – Эдем, право.
Воздух был уже теплым, пахнущим землей.
– Извольте ощутить, – Рогинский размял в пальцах листок, – аромат! Богородская трава. Чабер[35]. По поверью, Мария родила Иисуса на подстилке из этой травки. А! Тут кошачья петрушка – вех. Ну или, если угодно – печально известная цикута. То самое растение, которым был отравлен Сократ!
Я ждал очередной байки, но фельдшер замолчал, возясь в темноте у края грядки.
– Не опасно ее сажать?
– От мух-с первейшее средство. – Он постоял, покачался на носках, шумно потянул носом, вдыхая. – Воздух-то какой! Тут, между нами, накоротке… Не вяжитесь к Астраданцеву. У него все умозрительно. Он Рудиной, конечно, делал подарки. Простые. Но любая женщина в его ситуации – только повод к стиху. Он и моей Анне сонеты посвящает. Невротичный, еще испугается, сотворит что-то.
– А ему есть чего бояться?
– Ну, как хотите… Я вам, поверьте, сочувствую. Вам тут никто ничего не расскажет. Турщ уж сколько пытается дознаться о нападениях на артель, но все молчат. Бывает, и терпят лишения, а молчат.
– Боятся, запуганы?
– Запугать здешних – та еще задачка. Уж как старались. Но попытайтесь, поспрашивайте, что же, за спрос, как известно, денег не возьмут.
Я поинтересовался, с кого лучше начать.
– Может, со священника, отца Магдария?
Наш разговор прервал лай или визг, почти человеческий, от оврага, на одной заунывной ноте.
– Лисы кричат, тут много их, – пояснил фельдшер. – Вы интересовались, что мы делали и где были, – добавил он. – Так вот, мы с Аней все дни проводим однообразно. Когда не заняты больными – возимся в саду. Вот и тогда провозились до позднего вечера.
Вернувшись с Рогинским в дом, мы попали аккурат к накрытому столу.
* * *– Вы спрашивали о суевериях, – вступил Псеков, подвинув ближе коробку с кильками. – Народ все же темный. Взять хоть этих бедолаг – партию краеведов… – Псеков аккуратно пристроил очищенную кильку на хлеб.
Узнав фамилию руководителя партии, ведущего раскопки, – Гросса, я вспомнил, что слышал это имя еще в Ростове[36]. Ученый, прибыл из Варшавы и в Граждан-скую беспрерывно копал курганы, даже под пулями.
– Жители недовольны, что они роют, – продолжал Псеков.
– Почему же?
– Считается, что если тревожить кости в курганах, то неотвратимы бедствия, к примеру, мор. Ряженое село старое. В этих местах селятся с пятого века, и краеведы тут постоянно что-то копают. Но им феноменально не везет! Как подступили к курганам в прошлый раз – встала в небе комета. За ней война, потом Гражданская. Ведь тут противостояние было страшное, – пояснил Бродский.
– Вроде кое-как устоялось, и они снова приехали копать. И тут началось! – вставил Псеков.
– Так ведь это не совсем те же копают? – спросил я.
– Разницы нет. Местным и боязно, и любопытно. Ждут от раскопок сокровищ. – Бродский, посмеиваясь, искал глазами масленку.
Фельдшер вмешался:
– Рекомендую, чудо какие огурчики! Аня закладывает в бочку прямо с капустой. И настоечка тоже самодельная. – Он подвинул ко мне рюмочку на ножке. – Казенную водку мы не пьем, вы – доктор, должны понимать.
– Рыковку[37] близко не желаю, – подтвердил Псеков, – от водки настоящей отличается тем, что слабее градусов на десять и в четыре раза дороже, да и на вкус хуже.
– Однако в лавке при почте берут, если привезли, – отметил Астраданцев, приподняв рюмку в молчаливом салюте присутствующим.
Псеков насадил огурец на вилку, замахал перед носом рукой.
– Казаки, те свое…
– Ну казаки разве, а так… Чего не употребляют только. Луженые желудки! Septiformis sanguinem – Семибратняя кровь. А на деле – толченые кораллы с вод-кой, якобы первейшее средство при лихорадке.
– Ведь и толкут, и пьют!
– Она же яд, она же и лекарство.
Под общий, как позвякивание рюмок, разговор явился к столу графинчик поменьше. С настойкой зеленой, как леде-нец. Бродский плеснул воды в рюмки, жидкость помутнела, запахла полосканием для рта.
– Если позволите, кусочек сахара – вот, истинное наслаждение! – говорил Рогинский. – У меня огородик, вы видели. Полынь – травка пользительная! Предотвращает сифилис, излечивает от уныния. От блох опять же-с! Пол подмети, полынью окропив. И – блохи сгинут! Ужас ощутив. А мы вот, настоечку.
– Что вы там, – поторопил Псеков.
– Ну, medice, cura te ipsum! – закруглил фельдшер. – Врач, исцели себя сам.
Разговор скакал, как блохи от полыни. Я поймал обрывок обсуждения недавнего происшествия – порезали артельные сети. Скакнули к бывшему владельцу рыбокоптильного завода.
– В степи у него был табун, мельница, ну и завод, конечно. Дело свое знал, – говорил Псеков.
– Что с ним стало? – Я подумал, что неплохо бы сейчас крепкого кофе.
– Он теперь служащим бывшего мануфактурного магазина Чангли-Чайки-на состоит в Таганроге, – вставил Астраданцев.
– Шутите? Разве не бежал он?
– Давно в Неаполе, – одернул Астраданцева Псеков. – А в усадьбе устроили клуб. Вообразите, буфет, в нем суповая тарелка и зачем-то картина. Это значит «представление быта помещика».
– А я еще девочкой бывала в Италии, и мне запомнились поезд, окно. И, кажется, все пахло устрицами, водорослями, морем, даже плюш сидений, – громко проговорила вдруг Анна.
– Да кто его знает? Может, и в самом деле он в Таганроге. Может, и Неаполя никакого нет. И не было никогда. Одна чертова – простите, Анна Сергеевна, степь кругом, – прибавил Бродский.
Анна, у которой уши покраснели вполне мило, замахала рукой:
– Крепкое вино. – Отставила стакан-чик.
Общий разговор перескочил на близкий сев, какие-то удобрения.
– Не скучно вам здесь? Вы где жили до этого? – Я спрашивал из праздного любопытства.
– В Риге. Ходила на курсы милосердных сестер, но бросила. Нужно было ухаживать за больными в сыпи, бреду – от «чечевичной лихорадки»[38]. Это мне было тяжело. Теперь помогаю мужу, если нужно.
– Анна Сергеевна рвет зубы уверенно, как мужчина. И при том – легкая рука, – покрутил запястьем Астраданцев.
Я вспомнил, что хотел еще узнать у Анны.
– Могу я поинтересоваться вашим, женским взглядом на одну вещь? Такие бывают в местной лавке? – Круглая оправа зеркала, которое нашлось в жакете Рудиной, блеснула при свете.
– Эмалевая! И цветок на крышке? Это моя, моя вещь.
– Анна подарила его погибшей девушке. Еще зимой. – К стулу Анны подошел фельдшер.
– Я не дарила! – Анна щелкнула замочком зеркала.
– Подарила, Анечка, и позабыла! Аня очень добрая. – Рогинский погладил жену по руке, пожал пальцы.
Анна поднялась, сказала что-то о том, что сварит кофе, и вышла.
Что же, момент удобный. Анны за столом нет, да и настойка способствует.
– У погибшей были хорошие городские вещи. Кто мог еще ей делать подарки? Из числа местных мужчин? – спросил я, обведя всех взглядом.
Следом я упомянул сделанный Рудиной аборт. Возникло явное замешательство.
– Австрияк дарил ей вещицы!
– Калека, он говорил всем, что она пойдет за него, – пояснил фельдшер, стоя в дверях. – Посмотрю, что там Аня.
Компания после сама собой расстроилась. Фельдшер предложил мне переночевать в комнате с раскладной кроватью, на ней, бывало, оставляли тяжелых больных. Я отказался. Нахиман Бродский сказал, что нам по пути и, чтобы не заплутал, он проводит. Я думал, что это удачный случай расспросить его, но почти сразу, шагнув в темноту, он быстро пошел вперед. Яркий зрачок луны висел, отражаясь в воде, у линии камышей. Хотя луна светила в полную силу, идти приходилось почти наугад.
– Как думаете, кто же отец ребенка Рудиной? – окликнул я Бродского. – Ведь тут все на виду. Утаить непросто.
– Непросто, если скрываешь. А она не пряталась. Но это не разврат, как бывает, с расчетом. Скорее – новые нравы, характер. Астраданцев зря… сплетничает как баба, право слово!
Он снова пошел вперед. Его светлый резиновый макинтош, как у многих здесь, мелькал ориентиром. Я не узнавал местность. Достал и потряс фонарик на батарейках. Он вспыхнул и погас. В Средние века бывали бои слепцов, когда надо было сразиться на потеху и получить в награду свинью. Я на темной дороге был таким же слепцом, только награды, даже свиньи, не предполагалось. Двигался я почти на ощупь, надеясь не слететь в овраг. Нахиман, хоть и шагавший уверенно, тоже оступался, чертыхаясь. Пожалуй, настойка фельдшера была крепче, чем показалось. Тут я понял, что сбился с дороги. Из-под ног ушла земля. Трава захлюпала, я провалился довольно глубоко, ощутив признательность лодочнику за сапоги. Метнулся в сторону, цепляясь за дерево, ветки, корни. Пальцы наткнулись на цепь, обернутую вокруг ствола. Под ногами двигалось плотное, гладкое.
– Нахиман, идите сюда! Тут что-то… тело!
Ближе потянул цепь. Отчетливо тяжелое, что-то прошло под коленями. Я пошарил в воде, траве.
– Это рыба, – голос Бродского был совсем рядом.
– Откуда?
– Известно, сом. Рыбаки поймали да и завели на цепь. Сохранится свежей.
* * *Проснулся я рано. Очевидно, только рассвело. Скулы и нос горели от горьковатой и мутной лихорадки, когда все привычные предметы в доме становятся чужими и неуютными, как электрический свет. Неуместно всплыло в памяти: «Египтяне лечили мигрень прикладыванием к своей голове рыбьих голов». При яркой мысли о рыбьих головах, тяжелом теле сома на цепи пришлось сразу встать. С шумной головой я вышел умыться на задний двор. Собирая в комнате свои вещи и мечтая о стакане чая покрепче, толкнул створку окна – найти воздух. Но не вышло, что-то мешало. Толкнув сильнее, я увидел на подоконнике мертвую птицу. Черно-белые блестящие перья, мутная пленка глаз… Взяв тушку сороки платком, я осмотрел ее. Не подстрелена – кошка задушила? Пристроил на кучу мусора – сжечь.
Наскоро умывшись и выпив чаю, отправился в местный клуб – нужно было узнать у Турща о лодке, чтобы ехать на остров.
Бывшая усадьба владельца рыбзавода, где устроили клуб и читальню, была выстроена в стиле модерн: два этажа, стрельчатые окна, вытянутая башенка, треугольная красная крыша со шпилем. Готический замок в миниатюре. При входе растянуто полотнище «Красный штурм». С порога я услышал голос:
– А я тебя раньше видала! На пристани.
Девочка – белая, как одуванчик осенью, – прижимала к груди ворох старых газет. Голенастая, тонкая, бесцветные брови. Тараторя, провела меня в комнату на первом этаже. В центре ее стояли столы. По стенам развешаны плакаты. Крестьянин крупным планом шагает с обрыва в пропасть, подпись: «Неграмотный – тот же слепой». Или красный крылатый конь, на нем фигура, которая раздвигает тучи факелом, смахивающим на дубину. Написано: «Грамота – путь к коммунизму».
Турщ, заглянув, махнул на плакаты:
– Ликпункт – по линии ликвидации неграмотности.
Щепочкой он вычищал краску из-под ногтей, пояснил:
– Возился с лозунгом – не люблю сам. Но теперь, в отсутствие товарища Рудиной, некому доверить.
Да уж, «в отсутствие»… Турщ отошел за дверь – сказал, почиститься от краски. Беленькая девочка все крутилась рядом.
– Люба хорошая была. Отдала мне вот, – выставила ногу в широком ботинке, – ботики городские. Керосин доставала. Писать учила. Раньше тут школа была от помещика. А теперь – все Люба. Поперву писали соком с буряка. Люба чернила достала, устроила. Книги вот, с картинками!
Рассматривая с девочкой книги и плакаты, я расспрашивал между делом, с кем дружила Люба, где бывала и чем была занята кроме клуба. Моя свидетельница отвечала охотно, даже слишком. Но в ее болтовне не нашлось ничего нового.
– Люба не жаловалась ли? Может, она боялась, обидел ее кто…
– Да никого она не боялась! Ну, бывает, полаются, но так… – подпрыгнув, будто воробышек, она уселась на один из столов, болтая ногами, – шуткуя.
– И всерьез ни разу не было?
Она нахмурилась:
– Може, какие наброды? А Люба своя. Любушка своя! – она разревелась. – Нечего ей было в город ихать. Я все знала. Я тут же и сплю – за занавеской.
– Что же знаешь? – Я присел; платка не нашлось, вытер ей щеки ладонью. Девочка покосилась на распахнутую дверь. За ней слышался командный голос Турща.
– Краска ж есть, банка ищо. Ну ссохла, но ведь она в городе недешево стоит, чего брать? Можно было олифой развести старую, – успокоившись, она говорила рассудительно. – И лозунги мы сами. Я наловчилась, Люба меня хвалила. – Дернула плечиком. – Видать, он отправил, куда деваться.
Турщ, влетев в комнату, бросил ей: «Книги сложи!» – и повернулся ко мне:
– Вопросы культуры ставятся сейчас в центр. Деревня тянется к знанию. Главполитпросвет прислал букварь для крестьян «Наша сила – наша нива», «Агитазбуку» поэта Маяковского. – Он вынул томик из стопки, которую аккуратно складывала девчушка. – Проводим коллективные читки. Широко поставлена лекция, диспут, устные газеты!
У самой двери он передвинул с пути стопку перетянутых бечевкой томов. Я посмотрел: «Бесы», произведения писателя Толстого, религиозная литература.
– Проводим ревизию, – прокомментировал Турщ. – До революции в Ряженом работали земские учителя. Была школа, при ней библиотека. Учителя выступили против большевиков. Арестованы. Кое-что из книг сгорело. Оставшиеся проверяем, вычищаем вредную литературу. Пойдемте. Посмотрите, как устроено.
– Давайте в другой раз. Нужно ехать. – Я видел, что Турщ только зря забалтывает меня, и злился.
– Я условился с лодкой. Полчаса есть, – отозвался Турщ.
Бывшую гостиную делил надвое занавес из пестрого ситца. Из затейливой розетки на потолке болталась цепь без люстры. Полы поцарапаны, но чисто.
– Здесь театр, – продолжая говорить, Турщ дернул за ситец. – Сцена. Месяц назад у нас выступила Сквозная ударная бригада. Провели «Суд над коммунистом, венчавшимся в церкви», представили пантомиму «Гимн освобожденному труду».
Турщ бойко сыпал смесью сокращений и передовиц, я улавливал «острый характер, плакаты, политпросвет».
– Подростков нам удалось привлечь. А вот в целом населением клуб плохо посещается. Зачастую наблюдаем полное отсутствие увязки.
Посмотрев на часы и поддержав Турща репликой о том, что отсутствие увязки – это полное безобразие, я напомнил о лодке. А по пути к выходу вдруг столкнулся с Псековым. Дмитрий Львович, входя в комнату, хмуро пояснил, что ведет счета коммуны.