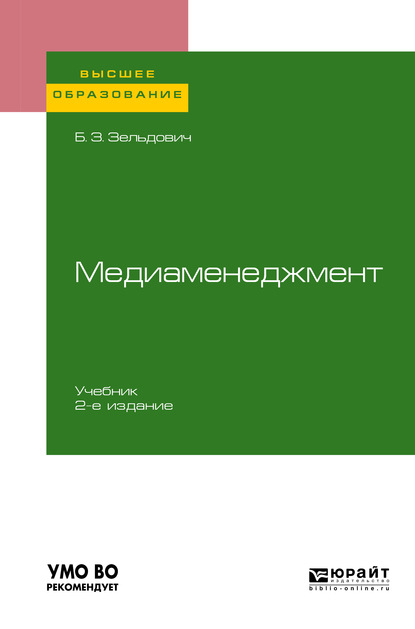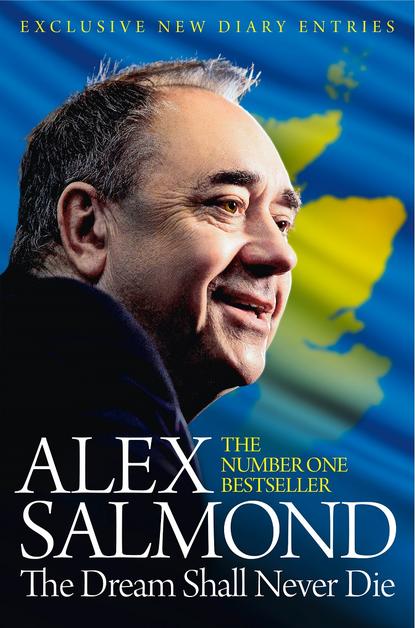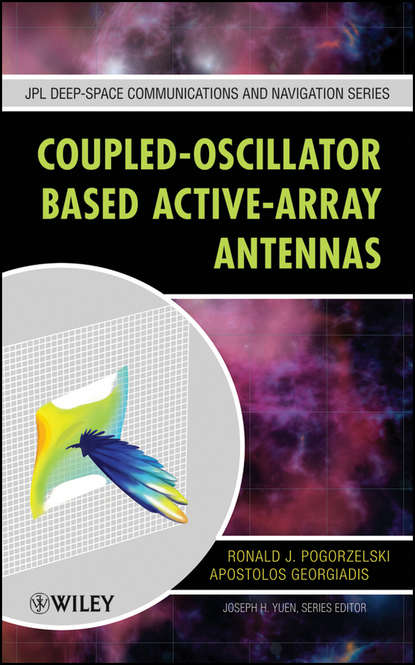СЕРДЦЕ ФЕНИКСА

- -
- 100%
- +

Что, если самая мощная магия скрывается не в заклинаниях, а в тебе самом?
Фрейя Винтерс знает, что такое боль и утрата. Судьба заключила её в тюрьму собственного тела…
Однажды в канун Рождества, когда звёзды складываются в особую фигуру, «Сердце Феникса», границы между желанием и реальностью истончаются, Фрейя загадывает самое смелое желание – пойти на маскарадный бал. Всего на одну ночь. Чтобы снова увидеть Того Самого Юношу, чей образ согревал её все эти годы.
Одна ночь, чтобы танцевать. Одна ночь, чтобы быть с ним. Одна ночь, которая перевернёт всё. Магия начинается с мысли.
Готова ли она заплатить цену за чудо? И что сильнее: колдовство, заключённое в мыслях, или любовь, способная нарушить любые законы?
СЕРДЦЕ ФЕНИКСА
За окном медленно, величаво падал снег. Не отдельные хлопья, а целые белые вселенные, сплетающиеся в танце. Фрейя прикоснулась лбом к холодному стеклу круглого окна своей мансарды, превращая застывший зимний пейзаж в чуть размытый акварельный шедевр.
Лимори спал под пушистым одеялом. Домики внизу, на склонах холма, походили на припорошенные сахарной пудрой пряничные домики. Трубы дымились тонкими струйками, растворяющимися в свинцовом небе. А дальше, за рыночной площадью, лежал Залив – огромное зеркало из матового стекла, окаймленное белоснежным кружевом припая. Снег укутывал мир в гробовую тишину, и эта тишина была единственным, что Фрейя слышала по-настоящему… И яркое звёздное небо.... В детстве бабушка показывала ей старые звёздные карты. «Вот это, Фрейя, – Сердце Феникса, – говорила она, обводя затейливый рисунок созвездий. – Оно является раз в несколько лет, чтобы напомнить: даже из самого горького пепла можно возродиться, если твоё сердце горит достаточно ярко».
Ее пальцы бессознательно сжали колеса коляски. Этот вид был и ее утешением, и ее клеткой. Красота, которую можно было видеть, но нельзя ощутить – пробежаться по хрустящему насту, скатиться с самого крутого холма, оставив за спиной вихрь алмазной пыли.
Взгляд ее упал на старую яблоню в саду. Ее голые черные ветви были бережно укутаны снежными шапками. Бабушка говорила, что яблоня эта – ровесница их рода. И Фрейя верила. Иногда ей казалось, что она чувствует тихий, дремальный пульс, исходящий от ее корней. Сегодня на одной из нижних ветвей, защищенной от ветра, красовалась единственная ледяная сосулька, переливающаяся в скупом зимнем свете, как хрустальный жезл. Маленькое чудо. Как и она сама.
Мысль о чуде вернула ее туда, в прошлое. Оно всегда было рядом, как тень, отбрасываемая пламенем свечи.
––
Тогда был дождь. Не убаюкивающий, как этот снег, а холодный, пронизывающий, режущий лицо, как тысячи стеклянных иголок. Фургон их семьи мчался по мокрому шоссе, петляющему между холмами. Она, тринадцатилетняя, сидела на заднем сиденье и прижимала к груди новую книгу о древних мифах – подарок на день рождения. Мама, повернувшись к ней, улыбалась, а папа напевал какую-то старую мелодию.
А потом – оглушительный грохот, лязг рвущегося металла, хруст стекла. Мир перевернулся, завертелся в черно-красном водовороте. Она помнила не боль. Она помнила тишину. Глухую, звенящую тишину, в которой только капли дождя отбивали дробь по перевернутой крыше.
И тогда, в этой тишине, случилось первое чудо.
Ее тело было зажато, ноги не слушались, пронзая холодным онемением. Сквозь трещину в лобовом стекле она увидела ветку придорожного терновника. Она была обломана, почти мертва. И девочка, задыхаясь, подумала только одно: «Не хочу умирать. Не хочу, чтобы все было таким серым и мертвым».
Она не знала, откуда взялась эта сила. Волна жара, вырвавшаяся из самой глубины ее груди. Она не произнесла заклинания. Она просто увидела в своем воображении тот самый куст, покрытый нежными белыми цветами, каким он бывал весной.
И ветка зацвела.
Прямо на ее глазах, в ледяном ноябрьском ливне, на обломанной, почти сухой ветке распустился один-единственный, идеально белый цветок. Он светился в полумраке, как крошечная звезда. Знак жизни. Ее жизни.
Потом были крики, руки, вытаскивающие ее, огни. Родителей не стало. А ее ноги… ноги будто заключили с ней договор: «Мы позволили тебе выжить, сотворив чудо. Но плата за чудо – мы».
Ее привезли к бабушке, в этот самый дом на холме. Бабушка, мудрая и печальная Эльмира, не удивилась ни цветку, о котором шептала ей Фрейя в бреду, ни тому, что внучка осталась жива. Она лишь обняла ее и сказала: «Наш дар – это и благословение, и проклятие, милая. Теперь ты должна научиться жить с ним».
Сначала были надежды. Врачи, упражнения, болезненные процедуры. И он. Ориан Фэй. Мальчик с глазами цвета летнего неба и солнцем в улыбке.
Они познакомились в школе, когда им было по триннадцать лет. Фрейя тогда ещё ходила – быстро, чуть подпрыгивающей походкой, с толстой косой, хлеставшей по спине. Она была тихой девочкой, любившей книги больше, чем шумные игры, и предпочитавшей уединение под раскидистым дубом на школьном дворе суете перемен. В тот осенний день она сидела на своей привычной скамейке, углубившись в «Хроники Нарнии», когда над ней возникли тени.
– Смотрите-ка, профессорша опять в своих книжках копается! – раздался насмешливый голос.
Фрейя подняла глаза. Перед ней стояли трое старшеклассников – постоянные задиры школы. Её сердце заколотилось.
– Интересно, она вообще говорить умеет? – продолжал другой, вырывая у неё из рук книгу. – Или только читает?
Кровь прилила к её лицу. Она сжалась, чувствуя, как слёзы подступают к горлу. В такие моменты она всегда мечтала стать невидимкой.
И вдруг из группы мальчишек, игравших неподалёку в футбол, отделилась фигура. Это был Ориан – высокий для своего возраста, с взъерошенными каштановыми волосами и веснушками на носу. Подойдя вплотную, он встал между Фрейей и старшеклассниками, заслонив её собой.
– Отстаньте от неё, – сказал он просто. Голос его только-только начинал ломаться, но в нём прозвучала такая непоколебимая уверенность, что хулиганы на секунду опешили.
– А ты кто такой? – фыркнул самый высокий из них.
– Её друг, – не моргнув глазом, ответил Ориан.
Эти два слова – «её друг» – прозвучали для Фрейи как заклинание. Она смотрела на его спину, на растянутый свитер и взъерошенные волосы, и чувствовала, как страх отступает, сменяясь странным, тёплым чувством благодарности и… чего-то ещё, чего она тогда не могла назвать.
Старшеклассники, поколебавшись, ушли, бросив на прощание пару нелестных комментариев. Ориан повернулся к Фрейе и поднял с земли её книгу.
– Вот, – протянул он её. Страницы были немного помяты. – Не обращай внимания на них. Они просто глупые.
Фрейя взяла книгу дрожащими пальцами.
– Спасибо, – прошептала она, не решаясь поднять на него глаза.
– Меня Ориан зовут, – улыбнулся он. Его глаза, цвета летнего неба, казались невероятно добрыми. – А тебя?
– Фрейя, – выдавила она.
– Красивое имя, – сказал он. – Как в сказке.
С того дня всё изменилось. Он действительно стал её другом. Он подходил к ней на переменах, рассказывал смешные истории, иногда приносил яблоко из своего завтрака. Фрейя расцвела. Её мир, до этого ограниченный страницами книг, вдруг наполнился живым теплом его присутствия. Она ловила каждый его взгляд, запоминала каждое слово, а по вечерам, перед сном, вновь и вновь переживала тот момент, когда он встал между ней и обидчиками.
Потом случилась авария. Мир Фрейи рухнул, сменившись четырьмя стенами её комнаты, болью и отчаянием. Школа, друзья, дуб на школьном дворе – всё это осталось в другом измерении, недоступном и далёком.
Первые месяцы были самыми тёмными. Она не хотела никого видеть, отказывалась говорить. Лежала и смотрела в потолок, чувствуя, как её тело, не слушающееся больше её воли, становится тюрьмой. И тогда её бабушка, Эльмира, поговорила с классной руководительницей. Та попросила кого-нибудь из одноклассников приносить Фрейи домашние задания.
Добровольцем вызвался Ориан.
Помнился его первый визит. Он стоял на пороге её комнаты, бледный и испуганный, сжимая в руках стопку тетрадей. Он не знал, куда смотреть, что сказать. Воздух в комнате казался густым от молчания и боли.
– Привет, – пробормотал он, переступая с ноги на ногу. – Я… принёс задания. По всем предметам.
Фрейя, лежавшая в постели, отвернулась к стене. Ей было стыдно. Стыдно своей беспомощности, своей зависимости, своих слез. Она не хотела, чтобы он видел её такой – сломленной.
Но Ориан не ушёл. Он аккуратно положил тетради на прикроватный столик и неуверенно сказал:
– Миссис Эванс сказала, что по литературе нужно прочитать вот это, – он достал книгу. – Я… я тоже её читал. Она интересная. Про сестёр.
Он пробыл всего пять минут. Но эти пять минут стали первым лучом света в её кромешной тьме. После того как дверь за ним закрылась, Фрейя долго смотрела на стопку тетрадей, и впервые за много недель в её душе шевельнулось что-то, кроме отчаяния.
Он стал приходить регулярно. Сначала просто приносил задания, потом начал задерживаться. Он рассказывал ей о школе, о том, что происходит в классе, о смешных случаях на уроках.
– А Петерсон сегодня на географии так разозлился, – смеясь, говорил он, усаживаясь на стул у её кровати, – что у него усы затряслись! Представляешь?
Она не представляла. Она только слушала, жадно впитывая каждый звук его голоса, каждую улыбку. Он стал её связным с тем миром, из которого она выпала. Через его рассказы она продолжала жить той жизнью, которая была так безжалостно у неё отнята.
Именно в те дни её детская привязанность стала превращаться в нечто большее. Она начала ждать его визитов, как праздника. Запоминала дни недели, когда он должен был прийти. Смотрела в окно, высматривая его фигуру на дороге, ведущей к их дому. Бабушка, заметив это, лишь тихо вздыхала и ставила на стол лишнюю чашку для чая.
Он был для неё не просто другом. Он был олицетворением жизни, движения, всего того, что она потеряла. В его глазах она видела отражение того мира, в котором больше не могла существовать. И в этом отражении была и тоска, и надежда.
Однажды, в один из своих визитов, он принёс не только тетради, но и маленький, криво сделанный бумажный кораблик.
– Я на уроке труда делал, – смущённо сказал он, протягивая ей поделку. – У меня не очень получилось, но… думал, тебе понравится. Можешь поставить на тумбочку.
Фрейя взяла кораблик. Бумага была неровно сложена, парус криво приклеен.
– Он прекрасный, – прошептала она, и впервые за долгое время на её губах дрогнула улыбка.
Этот кораблик, стоявший потом на её прикроватной тумбочке, стал для неё самым дорогим сокровищем. Символом того, что о ней помнят. Что её мир не ограничен стенами комнаты. Что где-то там, за окном, есть кто-то, кто думает о ней.
А потом его визиты стали редеть. Сначала он приходил раз в неделю, потом раз в две. Он становился всё более замкнутым, его рассказы – короче.
– Мы, наверное, переезжаем, – как-то раз обронил он, глядя в окно. – Отец говорит, в городе больше возможностей.
Для Фрейи это известие стало вторым крушением. Она поняла, что теряет не просто друга. Она теряет свою единственную связь с внешним миром, того, кто заставлял её забыть о боли и отчаянии. Того, в кого она уже успела влюбиться всей силой своей первой, ещё неосознанной, но от этого не менее сильной любви.
И вместе с его уходом ее вера в чудо стала угасать. Упражнения для ног, которые раньше вызывали хоть крошечный отклик, теперь были просто механическим движением. Ее Дар, ее сила визуализации, зачахла, как тот первый цветок на терновнике, не найдя больше почвы для роста.
Она окончила академию, стала репетитором по иностранном языку. Жизнь вошла в спокойное, предсказуемое русло. Но где-то глубоко внутри, под слоем привычки и покоя, все еще тлела искра. Искра, что однажды ждала лишь одного – появления на пороге ее памяти того самого летнего неба в глазах мальчика, которого звали Ориан.
Фрейя вздохнула, и ее дыхание снова запорошило окно инеем. Прошлое отпустило ее, оставив на душе знакомую, выцветшую грусть. Она откатилась от окна, к своему столу, где лежали ученические тетради. Жизнь продолжалась. Обычная, земная, лишенная чудес.
Она еще не знала, что самое большое чудо ее жизни уже стояло на пороге, и имя ему было – Возвращение.
––
Фрейя переводила дух, отложив в сторону исправленное сочинение. Красные чернила её карандаша легким росчерком превратили неуклюжую фразу «мои большие надежды» в «мои сокровенные чаяния». Она потянулась, чувствуя, как усталость тянется за мышцами спины тугими нитями. День клонился к вечеру, за окном медленно гасли краски короткого зимнего дня.
Взгляд её снова, как заведённый, уплыл к окну. Это было её главное окно в мир – круглое, словно иллюминатор корабля, плывущего по застывшему морю холмов. Снегопад, начавшийся ещё утром, не утихал, а лишь набирал силу. Отдельные хлопья слились в сплошную, плотную пелену, за которой угадывались, а не виделись, очертания спящего города. Лимори превращался в застывшую новогоднюю открытку, идеальную и безмолвную. Фонари зажигались в сумерках, и их размытые световые пятна тонули в белой мгле, как жемчужины в молоке.
Она смотрела на эту белую мглу и думала о бесконечной повторяемости дней. Утром – уроки по скайпу, днём – проверка работ, вечером – чтение. Иногда – визит бабушки с чашкой чая и тихим разговором. Бабушка Эльмира была точь-в-точь как те добрые феи из старинных сказок, что хранят тепло домашнего очага. Невысокая и совсем не строгая, она казалась мягкой и округлой – в плечах, в щеках, в ладонях. Её седые волосы, больше похожие на пушистое облако, чем на причёску, вечно выбивались из-под шпилек живыми прядями, искрясь на свету, будто припорошенные инеем. Но главное – это были её руки. Тёплые, неизменно мягкие, с короткими аккуратными ногтями и тонкой паутинкой морщинок у запястий. Эти руки знали толк и в целебных отварах, и в том, как укрыть потеплее ночью, и в том, как нежно поправить одеяло, и в том, как испечь тот самый яблочный пирог, от одного запаха которого на душе становилось светлее. Когда бабушка гладила Фрейю по голове, казалось, самая острая боль отступала, уступая место тихому, глубокому спокойствию. А в уголках её карих глаз жили лучики – целая карта из мелких морщинок, каждая из которых рассказывала историю доброй улыбки, подаренной кому-то за долгие годы.
Так текли дни Фрейи, недели, месяцы. За окном сменялись сезоны, а в её комнате время казалось застывшим, как лёд на оконном стекле. Она давно перестала ждать перемен, научившись находить утешение в постоянстве. В знакомом скрипе половиц, в узоре мороза на стёклах, в тиканье старых часов.
Мысль о том, что где-то там, за снежной пеленой, кипит другая жизнь – быстрая, шумная, полная событий и встреч, – вызывала в ней лишь лёгкую, привычную грусть. Как боль от старой раны, которая ноет к непогоде. Она проводила пальцем по холодному стеклу, рисуя незамысловатый узор. Её мир был мал и предсказуем, и она смирилась с этим.
И в этот момент, когда её мысли блуждали в круге привычных размышлений, что-то изменилось.
Не в пейзаже за окном – снег продолжал падать с прежним безразличным постоянством. Изменилось что-то в самом воздухе комнаты. Он стал гуще, плотнее, будто наполнился невидимой энергией. И тогда, на самой границе слуха, в самой глубине её сознания, прозвучал звон. Не громкий, не резкий, а тихий, едва уловимый, словно кто-то невидимый провёл влажным пальцем по тончайшему краю хрустального бокала, извлекая одну-единственную, чистую, звенящую ноту. Этот звук был слышен не ушами, а чем-то иным – душой, кожей, сердцем.
Фрейя замерла, вся превратившись в слух. И тут же её взгляд упал на чашку с остывшим чаем, стоявшую на краю стола. Поверхность давно остывшей жидкости, секунду назад бывшая абсолютно неподвижной, вдруг дрогнула. По ней от края к центру пробежала мелкая, торопливая рябь, словно от лёгкого, невесомого прикосновения. Чашка тихо звякнула о блюдце.
И тогда сердце Фрейи, за секунду до этого бившееся ровно и спокойно, совершило в груди кульбит. Оно замерло, словно попав в ледяную ловушку, затаилось на один ужасно долгий миг. А затем рванулось вскачь, забилось с такой дикой, неистовой силой, что ей стало физически трудно дышать. В висках застучало, в ушах поднялся шум, похожий на рёв океана в раковине.
Она не думала, не анализировала. Сработал инстинкт, глубокий и безошибочный. Она инстинктивно рванулась вперёд, прильнула к холодному стеклу лбом, заслонив ладонями глаза от света лампы, чтобы лучше видеть то, что творилось внизу, в подступающих к дому сумерках.
Её Дар, дремавший где-то в глубине, подавал ей сигнал. Тот самый тихий звон, та самая рябь на воде – это были знаки. Предчувствие. Шёпот магии, который всегда предварял в её жизни что-то важное, что-то судьбоносное.
И она, затаив дыхание, с бешено колотящимся сердцем, смотрела в белую пелену снега, ещё не зная, что именно принесёт ей эта встреча с судьбой. Не зная, что там, в снежной мгле, уже стоит человек, чьё появление перевернёт всю её жизнь. Но уже чувствуя – каждой клеткой своего тела, каждой искоркой своего волшебства – что привычный, налаженный мир вот-вот рухнет. И ждала. Сердце Фрейи замерло, а затем забилось с такой силой, что ей стало трудно дышать. Она инстинктивно прильнула к стеклу.
На улице, у подножия их холма, там, где дорога огибала замерзший фонтан, стояла фигура в темном пальто. Высокая, прямая. Незнакомый мужчина. И все же… что-то в осанке, в том, как он, запрокинув голову, смотрел на падающий снег… Напоминало кого-то.
Он повернулся.
Даже сквозь пелену снега и расстояние она увидела его лицо. Черты, утратившие юношескую мягкость, стали резче, взрослее. Но глаза… Глаза остались прежними. Цвета летнего неба, какими она их помнила в самых ярких своих снах. Это был Ориан.
Мир сузился до размеров оконного проема. Звон в ушах нарастал, превращаясь в гул. Она не думала, не анализировала. Она просто смотрела, впитывая в себя этот образ, как пустыня впитывает первую каплю дождя после долгой засухи. Годы одиночества, смирения, тихой тоски – все это поднялось внутри нее единой, могучей волной.
И в этот миг он поднял голову и посмотрел прямо на ее окно.
Прямо на нее.
Фрейя отпрянула, сердце бешено колотилось в груди. Увидел? Невозможно. Снег, расстояние, темное стекло… Он не мог ее увидеть. Это было просто случайное движение, взгляд, блуждающий по склонам холма.
Но длилось это всего мгновение – показавшееся ей вечностью. Взгляд его не выразил ни узнавания, ни удивления. Он был скорее задумчивым, немного отрешенным, будто он смотрел не на дом, а на призрак своего собственного прошлого.
Затем он провел рукой по волосам, стряхивая снег, повернулся и медленно зашагал прочь, растворившись в белой пелене, как мираж. вот сейчас, спустя годы, он снова вошёл в её жизнь. Взрослый, изменившийся, но с теми же глазами цвета летнего неба. И все те старые чувства, которые она так тщательно пыталась похоронить в глубине души, ожили с новой, невероятной силой.
Фрейя сидела, не двигаясь, прижав ладонь к груди, пытаясь унять дрожь. Комната казалась вдруг невыносимо тихой и пустой. Но что-то в ней изменилось безвозвратно. Воздух теперь был не просто холодным, он был наэлектризованным. И на краешке ее сознания, слабо и настойчиво, как первый луч солнца после полярной ночи, затеплилась мысль, давно забытая, почти запретная.
Мысль о бале. О маскараде, который всегда проходил в канун Рождества в старой библиотеке. О танце.
Она снова посмотрела на свои ноги, безжизненно лежащие на подставке. А потом – на ту самую ветку старой яблони за окном, с ее хрустальным жезлом-сосулькой.
И случилось второе чудо.
Без единой мысли, без малейшего усилия воли, просто под давлением этого взрыва надежды и тоски, который разорвал ее изнутри, сосулька на ветке… тихо зазвенела. Прозрачный, чистый звук, похожий на удар крошечного колокольчика, пронесся по застывшему воздуху сада. И Фрейя почувствовала странное, давно забытое тепло в кончиках пальцев ног.
Оно длилось лишь долю секунды. Но этого было достаточно.
«Я пойду на этот бал», – прошептала она в тишину комнаты. И на этот раз это была не мечта. Это было обещание. Себе. Ему. Всему миру.
––
Тишина после его ухода была громче любого грома. Фрейя сидела, затаив дыхание, будто боясь спугнуть хрупкое эхо только что случившегося. Легкое покалывание в кончиках пальцев ног уже исчезло, но память о нем жгла сильнее любого пламени. Это не было болью. Это было… ощущением. Призрачным, мимолетным, но настоящим. Первой нотой симфонии, которую она считала навсегда умолкшей.
«Я пойду на этот бал».
Слова, сорвавшиеся с ее губ, повисли в воздухе не пустой мечтой, а вызовом. Вызовом судьбе, гравитации, законам природы. Вызовом самой себе.
Она резко развернула коляску и подкатила к старому трюмо из темного дерева, единственной ценной вещи, доставшейся от прабабушки. В его мутноватом зеркале отразилась бледная девушка с огромными глазами, в которых плясали отблески только что пережитой бури. И за ее отражением, в глубине стекла, – неподвижные колеса коляски. Два мира. Две реальности.
«Нет, – мысленно сказала она своему отражению. – Не две. Одна».
Она закрыла глаза, отсекая визуальный шум. Внутри нее все еще бушевала энергия от встречи с Орианом. Она вспомнила его взгляд, устремленный на ее холм. Он не видел ее, но он смотрел. Он был здесь. В Лимори. Этого было достаточно. Достаточно, чтобы мертвый вулкан ее надежды снова задышал.
Фрейя сосредоточилась. Она не просто захотела пойти на бал. Она начала визуализировать. Это бабушка учила ее как мантру, как единственно верный способ общения с их Даром.
Сначала она представила платье. Не просто красивое, а свое. Цвета лунной пыли, какого-то серебристо-перламутрового оттенка, который будет переливаться в свете сотен свечей. Ткань – струящийся шелк, легкий, как обещание. И маска. Не закрывающая все лицо, а кокетливая, из кружева и серебряных нитей, с пером павлина у виска. Она чувствовала, как воображаемая ткань скользит по ее коже, как сидит на плечах лиф.
Потом – движение.
Она представила, как стоит. Не просто «не сидит», а стоит. Пятки упираются в прохладный паркет, мышцы бедер напряжены, удерживая тело в вертикальном положении. Это было трудно. Ее разум, привыкший к сидячему положению, сопротивлялся, посылая ложные сигналы о тяжести, о падении. Но она продолжала.
Затем – шаг.
Один. Потом другой. Медленно, неуверенно, как ребенок. В своем воображении она шла по своей комнате, от кровати к окну. Она чувствовала текстуру ковра под босыми ногами, упругость дерева. В висках застучало, на лбу выступила испарина. Это был титанический труд – заставить мозг поверить в то, что он отринул годы назад.
И наконец – танец.
Она представила его руки. Крепкие, надежные, на своей спине, чуть ниже лопаток. Его вторую руку, держащую ее пальцы. Их медленный вальс. Плавное кружение. Она слышала музыку – не ушами, а кожей, каждой клеткой. Это был старый романс, который часто напевала бабушка. Они кружились, и платье вздымалось вокруг ее ног легким облаком. Она видела его лицо так близко, его глаза, смотрящие на нее сквозь прорези маски. Не с жалостью, а с восхищением. С любовью.
Внезапно резкая, судорожная боль в ногах заставила ее вскрикнуть и открыть глаза. Видение рассыпалось. Она сидела в коляске, дрожащая и обессиленная, как после долгого марафона. Ничего не изменилось.
Почти ничего.
На трюмо, рядом с ее серебряной щеткой для волос, лежал засохший бутон лаванды, который она хранила для аромата. Пока она визуализировала танец, с бутона осыпались несколько сухих, мертвых лепестков. И прямо на ее глазах, на месте одного из них, проклюнулся крошечный, ярко-зеленый росток.
Он был не больше миллиметра, хрупкий и невероятный. Чудо размером с надежду.
Фрейя выдохнула счастливо-измученный вздох. Это был знак. Маленький, но неоспоримый. Ее Дар откликался. Он спал, но не умер.
«Слишком сильно, слишком быстро, пташка», – раздался у двери мягкий голос.
В проеме стояла бабушка Эльмира. В ее руках дымилась чашка травяного чая, а в глазах светилась та мудрая, всепонимающая грусть, которая всегда успокаивала Фрейю. Она вошла и поставила чашку на стол, рядом с проросшей лавандой, на которую бросила долгий, оценивающий взгляд.
– Я видела его, баба Мира, – прошептала Фрейя, и голос ее дрогнул. – Ориан вернулся.
– Я знаю, – просто сказала бабушка, поглаживая ее по волосам. – Ветер сегодня принес запах далекого моря и старой памяти. Дар не ошибается. Но помни, дитя мое, чтобы построить храм, нужен прочный фундамент. Не спеши возводить стены, не укрепив основание.