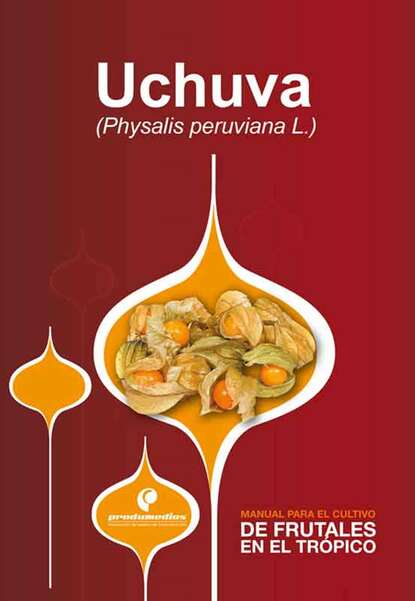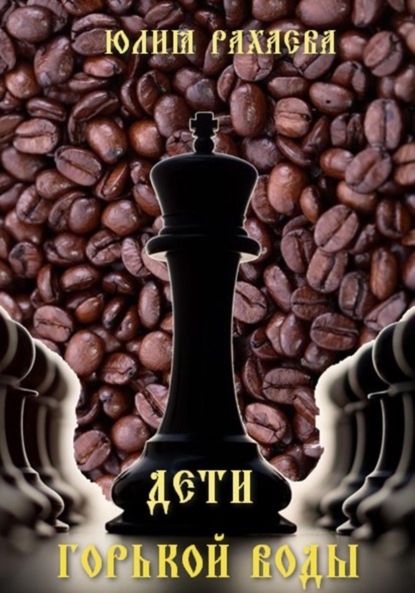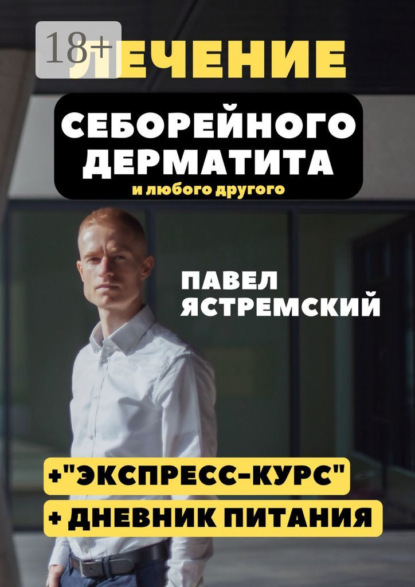Имя твоё – Человек!
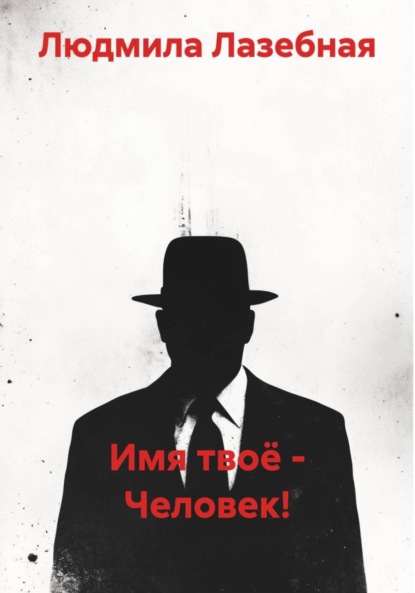
- -
- 100%
- +

«Истинно, истинно говорю Вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих
к Сыну Человеческому»… Из Евангелия от Иоанна.
глава 1
Зной, изнурявший более пяти месяцев с самой весны саратовские вольные просторы, к сентябрю начал мало-мальски спадать. Скворцы, собираясь в большие стаи, словно зловещий призрак в чёрном балахоне, то взмывая в небо, то резко снижаясь до самой земли, нервно кружили над скошенными полями в поисках пропитания. Их нескончаемый гвалт наводил суету и ужас. Люди, видавшие многое на своём веку, поговаривали, что конец света совсем близок, ибо невиданные испытания пришли на землю.
Осенью 1920-го года ожидание Страстей Господних в России ощущалось на каждом шагу. Земля, утомленная необузданными ветрами-суховеями, раскалённая палящими лучами солнца, изнывала. Дьявольские оргии, сопровождаемые бессмысленными войнами и революциями, перешедшими в братоубийственную войну, а следом – засуха и неурожай обескровили некогда плодородные почвы в Саратовской губернии. Узаконенный властями грабеж под видом продразверстки вытягивал из крестьян последние жилы. Голод, которого в таких масштабах не знавала российская земля, стал небесной карой за жестокую революцию, за зверскую казнь Помазанника Божия и единокровных чад его, за тысячи безвинно убиенных, замученных и потерявших родину, за патриотов, за солдатских вдов и сирот, за надругательство над святынями, церквями, монастырями, мечетями, костелами, синагогами…
«Что имели – не хранили, потерявши, слёзы лили», – приговаривали старики, в памяти которых жив был образ гордой и сильной России, внушавшей уважение своими необъятными имперскими просторами, армией и флотом, восхищавшей искусством и снабжавшей страны Европы всяческими натуральными товарами, в том числе, и зерном. А теперь? Россия упала в бессилии на колени! Россия – в нужде!
Несколько лет прошло с тех пор, как большевики пришли к власти, уже в 1918-ом году провозгласив «военный коммунизм» единственно возможным спасением от гнета буржуазии. Что же изменилось? А вот что: города и деревни голодают, производство практически остановлено, всюду царят разруха и нищета. Черным вороном, заслонившим огромными крыльями небо и солнце, надо всей страной нависла «Старуха с косой», жадно клацая челюстями и подгоняя своих слуг – Нищету и Голод…
Раньше других испытали на себе ужас нового времени жители крупных городов и некогда плодородных регионов – Поволжья и Черноземья. Правительство, пытаясь спасти жителей перенаселенных российских регионов, списало им оставшиеся выкупные долги за землю. Потомственным хлеборобам было предложено перебраться в другие места, где каждый получал свой надел земли. Сотни, тысячи крестьян, приняв от государства материальную поддержку на переезд, устремились на житьё-бытьё в отдаленные регионы сраны. Не успев, как следует, обжиться на новых местах, они были вынуждены приноравливаться к новым правилам, установленным большевиками. А спустя пару лет и вовсе потеряли веру и надежду на спасение своего уклада и улучшение жизни. Весь скудный урожай, собранный в засушливые, неурожайные годы Гражданской войны, силой забирала новая власть. В стране не было порядка. Правая рука не ведала, что творила левая! Трудолюбивые и терпеливые, крестьяне не могли самостоятельно справиться с разорением. Но русский мужик не глуп! Раз власть отнимает весь хлеб, не давая ничего взамен, значит, не надо столько сеять и ломать спину, стараясь вырастить и собрать урожай! В ответ на действия властей, крестьяне уменьшили посевные площади. Молодое правительство большевиков и созданная им «продовольственно-реквизиционная армия», состоявшая из вооруженных продотрядов, лишали крестьян запасов, которые обычно позволяли выживать в годы засухи и в дальнейшем поддерживать сельское хозяйство. И произошла такая катастрофа, которой не было в истории российского государства.
Ещё в апреле двадцатого Западная коалиция из четырнадцати стран, называемая Антанта, организовала против Советской Республики поход панской Польши и Врангеля. В период разгрома этой волны интервенции, белогвардейцев и банд анархистов-махновцев Саратовская губерния, как раз, являлась одной из баз, питающих фронты всем необходимым. Поборы и грабежи, «смена власти» в деревнях и сёлах стали частыми и непредсказуемыми.
***
В это, очень неспокойное и голодное время (осенью 1920 года) из Кронштадта в Саратовский Губисполком на усиление руководящего состава был направлен молодой коммунист-моряк – Константин Лазовский, тридцати двух лет от роду. С ним выехали и его супруга, Анна Гринберг, с отцом и младшей сестрой.
Семья известного в Кронштадте, успешного дантиста Шимона Моисеевича Гринберга решилась на переезд быстро, по соображениям единства и семейственности. О возможности успешной организации своей деятельности в провинции доктор Гринберг размышлял, однако вслух об этом не распространялся. Времена были суровые и учили выразительно молчать. Что до Саратова, так ведь Поволжье издавна считалось житницей России. Натерпевшись всякого от новой власти в неспокойном и голодном Кронштадте, потеряв практически все сбережения и дорогой сердцу дом в центре города, лелея скромную надежду на возможные изменения ситуации в стране, в частности, в Поволжье, Шимон Гринберг принял судьбоносное решение присоединиться к своему зятю и перебраться в Саратов. Идейных убеждений у доктора явных не проявлялось, что радовало и успокаивало его нового родственника, а желание работать и продвигать дело своей жизни – было похвальным. Страна нуждалась в докторах.
Анна Гринберг-Лазовская, принявшая фамилию мужа, и, на всякий случай, оставившая свою девичью, занималась активно учительством и жаждала применить свои недюжинные организаторские способности на этом поприще в провинции, где, как писали газеты, «наблюдалось нетронутое поле безграмотности среди населения».
Младшей дочери Шимона Гринберга, Милке, шёл семнадцатый год, и она вполне уверенно справлялась с поручениями отца во время его врачебной практики. Девушка была не по годам смышлёная и увлечённая медициной.
Путь по железной дороге от Петрограда до Москвы и затем до Саратова был чрезвычайно трудным. Поезда, переполненные солдатами, мешочниками, разного рода попрошайками и ворами-карманниками, поначалу внушали ужас и отвращение. Однако умение выживать в любых обстоятельствах, глубоко сидевшее до поры, до времени в каждом из представителей семейства Гринберг, помогло справиться не только с этими проблемами, но даже извлечь полезный опыт. Стараясь не вступать в общение и, тем более, в конфликты с представителями большинства, доктор, тем не менее, смог обеспечить своих дочерей сидячими местами в поезде и даже кипятком.
– Дале’ко ли путь держитя? – Спросила дородная баба с мешками и узлом из клетчатой шали, усевшись напротив Шимона Моисеевича.
– Что, что, простите? – Переспросил доктор, правой рукой машинально дотронувшись до нагрудного кармана, в котором лежали документы и деньги, зашитые под подкладку.
– Дале’ко ль путь держитя? Гляжу, никак семейством кудый-то направлятися? – Нагло и уверенно приставала баба, меж тем, ловко и без излишнего стеснения рассовывая под сиденье свои мешки и отодвигая правой рукой ноги Милки.
– Милочка, детка, пересядь к окошку. – Вежливо попросил Шимон Моисеевич младшую дочь, стараясь уберечь её от назойливого и беспардонного соседства.
– Ни отвичатя? Знать, брезгатя! – Не унималась баба. – А у меня вот сын большевик, скажу вот яму, как вы тута расселися да нос задирали, он Вас всех к стенке поставит! Аха-ха! – Загрохотала баба, демонстрируя беззубый рот, почувствовав удовольствие от реакции барышень на свою наглость.
– Что тут происходит? – Громко и строго спросил Константин, своевременно подошедший сзади и обнаруживший нахрапистую бабу, занявшую его место. – А ну, быстро собрала свои мешки и геть отсюда! – Сердито сказал он, правой рукой держась за кобуру револьвера.
– Ой, сынок, а чаво ж эти молчали-то? Хушь бы прокукарекали, мол, мястоф нету! А то, как жа я таперьча себе место найду, а?
– Твоё дело! Поспешишь – найдёшь.
Баба с размаху подоткнула подол широкой юбки между ног привычным движением правой руки, резко схватила из-под лавки свою поклажу и, виляя толстым задом, уверенно пошла по вагону, расталкивая на своём пути всех подряд.
– Вы бы, Шимон Моисеич, построже с такими. Они ведь почувствовали свою силу и лезут всем на головы. – Спокойно посоветовал Константин, доставая из-за пазухи кожаной куртки увесистый шматок сала, замотанный в газету и изрядно усыпанный солью. – Вот, паёк получил, – сказал он, положив сало на столик вагона.
– Да, да, голубчик, непременно! Вы совершенно правы! Но ведь это же человек!
– Какой такой человек, помилуйте! В народе говорят так: «Курица – не птица, а баба – не человек!». – Постарался пошутить Лазовский, доставая из кармана два леденца на палочке, и протянул их своей жене и её сестре.
– Ой, Костя, ты настоящий добытчик! – Радостно, с гордостью воскликнула Анна, нежно улыбнувшись мужу и кокетливо поведя глазами.
– Был бы добытчик, если бы к салу ещё и хлеба нашёл, но, увы! Понимаю, что сало – пища некошерная и абсолютно для вас неприемлемая. Однако же за неимением другого провианта – это тоже сойдёт. Можем обменять потом.
– Обмен – дело непростое, дорогой зять! Вряд ли сейчас можно совершить равнозначный тойшэн! («обмен», на идиш).
– Отправляемся, – тихо сказала Милка, глядя в заскорузлое окошко поезда на снующих мимо людей с баулами и вещмешками, не сумевших забраться ни в поезд, ни на его крышу.
Вдруг состав резко дёрнулся, гулко загудел паровозный гудок, и семья Гринбергов отправилась в дальний и неизведанный путь.
глава 2
Как же замечательно, что при царском режиме была построена железная дорога, проходившая через десятки губерний страны и соединявшая обе столицы России с негласной столицей Поволжья, городом Саратовом! Основательно строилась эта дорога, по которой доставлялись товары: соль, рыба, нефть, зерно и прочее, и прочее не только в Петербург и Москву, но и в другие города Великой России, да, что греха таить – во многие страны Европы.
– Смотрите, смотрите, лиса бежит! – Воскликнула Милка, показывая на бегущую в ближайший лес рыжую плутовку, крепко державшую в зубах какую-то мелкую добычу.
– Лисичка, рыжий хвостик! – Умильно сказала Анна, глядя в окно поезда.
Поезд загудел, то ли по надобности, то ли внимательный машинист решил припугнуть лисицу. Зверёк резко юркнул в кусты и, словно маленький язык пламени, мелькнул среди зелёных зарослей.
– А я до сих пор ни разу не видала лисиц в живой природе, вот какое везение, замечательно! Ради этого, может быть, стоило покинуть кронштадтские привычные пейзажи. – Задумчиво изрекла девочка. – Надеюсь, что в Саратове всё будет у нас лучше, чем было в последнее время.
– «Дум спиро, спэро (Пока живу, надеюсь)!» – Улыбаясь Милке в ответ на её философское мнение, процитировал по латыни Шимон Моисеевич. – Ты бы подремала, пока в поезде все спят, да и ты, Аннушка, тоже подремли. – Заботливо посоветовал он дочерям.
– Нет, нет, я дождусь Константина, – ответила взгрустнувшая старшая дочь, продолжая увлечённо читать старые и потрёпанные газеты, которые пару дней назад в Москве во время пересадки с поезда на поезд принёс её муж. – Знаете, отец, оказывается, мы легкомысленно и слишком поспешно отправились в этот путь, совершенно не владея информацией о ситуации в стране! Я внимательно просмотрела все эти газеты. И теперь моя душа неспокойна! Да, вот именно, неспокойна! Я больше не уверена, что это было правильным решением! Что нас ждёт?! Что мы будем делать там, куда мы направляемся? Сможем ли мы найти себе кров, возможность обеспечить себе достойную жизнь? Что теперь такое по нынешним меркам – «достойная жизнь», отец? – Взволнованно и растерянно шептала отцу Анна.
– Что так смутило и напугало тебя, дорогая?
– Отец, там, куда мы вот уже несколько дней едем в этом ужасном вагоне среди этих маргиналов, там – голод и болезни, там – полная разруха!
– Не удручайся, либлинк («милочка», на идиш)! Разруха, прежде всего, проявляется в головах людей! Вероятно, что «не так страшен старый черт, как его малюют»!
– А Вы почитайте, отец! – Протягивая пачку помятых газет, сказала Анна.
– Ну, гут, гут, почитаю. Не нервничай так, тебе это вредно! – Намекая на беременность дочери, заботливо посоветовал Шимон Моисеевич. – Видишь ли, любая газетная статья – это, всего-навсего, мнение одного человека, написавшего её по заказу хозяина газеты. Так что всё, что в ней написано, не есть абсолютная правда! У правды, как у палки, тоже есть два конца. Не надо нервничать! Я сделаю бамэ’ркунк («замечание», на идиш) твоему мужу, что не бережёт тебя в твоём состоянии! Зачем он принёс тебе эту макулатуру?! – Стараясь говорить спокойно и тихо, доктор Гринберг однако же раскрыл одну из газет и углубился в чтение.
Прошлогодняя газета от третьего июля девятнадцатого года в подробностях сообщала, что в Царицыне Деникин отдал, так называемую, "Московскую директиву" № 08878, которая провозглашала начало второго похода на Советскую Республику и ставила целью «захват Москвы». Вследствие чего на юге разгорелись ожесточённые бои. Сообщалось, что линия фронта прошла по территории Саратовской губернии и нанесла огромные разрушения. А также – о бедственном положении населения, метавшегося в поисках спасения. Шутка ли, только один город Балашов четыре раза переходил из рук в руки от красных к белым и обратно. Тогда же, в начале июля, белыми был захвачен Камышин, и они вышли на подступы к Саратову. Губерния была объявлена на осадном положении.
Далее в газете большими буквами было напечатано указание вождя Мирового пролетариата, Ленина, о проведении в Саратовской губернии мобилизации всего трудоспособного населения на военно-полевое строительство…
***
– Мдаа! – Складывая старую газету и берясь за другую, уже нынешнего года, произнёс доктор Гринберг. – Аннушка, а ты помнишь, что Константин рассказывал, как-то прошлым летом, о ситуации с разгромом войск Деникина? Но, помнится, он уже этой весной упоминал, что Антанта организовала против Советской Республики новый, третий поход – теперь уже панской Польши и барона Врангеля. Правда, я не совсем в курсе, что там случилось в результате, слишком быстро менялись события.
– А в результате был полный разгром Красной Армией и белых, и Петлюры, и поляков на Украине и в Центральной России! Пока ещё идут бои с поляками в районе Львова и под Варшавой, а с врангелевцами в Крыму, на Перекопском перешейке. Константин говорит, что скоро Гражданской войне наступит конец. По крайней мере, фронт откатился далеко на окраины.
Но самое тревожное, что за все эти месяцы Саратовская губерния, куда мы сейчас направляемся, была одним из основных районов, которые поставляли продовольствие всем воюющим сторонам. Возьмите, отец, и почитайте-ка более-менее свежую газету этого года! В ней говорится, что в некоторых местах летом и уже в первых числах осени случились неурожай и голод в таких масштабах, что нынче встречаются даже случаи каннибализма среди населения! Отец, я боюсь! Правильно ли мы поступаем, что сами добровольно едем на заклание, как агнцы, в адское жерло? – Разволновавшись, Анна смахнула платком слёзы.
– Дорогая, ещё раз прошу тебя, нет, я требую! Не позволяй плохим эмоциям проникать в твоё сознание. Такое сейчас время! Надо стараться сохранить свой внутренний мир и покой во имя будущего поколения! Поверь, так устроена жизнь! Человек, рождаясь, устремляется к смерти. И этот путь, от первого вздоха и до последнего, может быть разным: быстрым, либо долгим; скучным, либо радостным; жутким, либо счастливым. Человеку дано самому – выбирать и мостить дорогу на своём пути. Вот так случается, что у одного, на первый взгляд, будто совсем мало сил, а жизненную дорогу он свою мостит уверенно, старательно! Падают камни, он их вновь собирает и укрепляет свою дорогу. А другой, с виду крепок, как бык, а смотришь – не смог, не справился, не сумел… Дурная его дорога, неразумная жизнь, бесполезная. Каждому поколению людей, каждому человеку в отдельности посылаются свои испытания и радости. Но всегда остаются неизменными: любовь родительская к детям и детская любовь к родителям. Ради этого и стоит жить, дорогая! Береги себя и своего ребёнка, он не должен страдать! Ищи во всём, хоть малую толику доброго, приятного глазу, чтобы улыбнуться самой и чтобы радовался он. Не огорчай его. Если и суждено ему в жизни испытать огорчения, так пусть они не будут от его аидиш мамэ («мамы», на идиш)!
***
Через несколько дней пути, подъезжая к станции Ртищево Пензенской губернии, Шимон Моисеевич решил выйти на несколько минут на платформу и, если удастся, обменять кое-какие мелочи на провиант для семьи. В отличие от своих соплеменников, знающих толк в товарно-денежных отношениях, талантом таковым доктор Гринберг был частично обделён. Выйдя из поезда, он приметил толпу местных баб, торговавших пирожками, свежими и сушёными яблоками. Большинство торговок предлагали варёных раков.
В предвкушении предстоящей удачи, доктор, неумело начал торг:
– Вы, простите, какого дня эти пирожки приготовили? – Спросил он тощую старуху, с трудом державшую корзину с выпечкой перед собой.
– Ноня пичены, батюшка, бушь брать, ай нет? – Проскрипела она.
– А с чем они, позвольте полюбопытствовать?
– Дык, всяки! Энто с ревено’м, а ишо – с таком!
– Ах, с ревенем! Благодарю Вас! А, что значит «с таком», позвольте полюбопытствовать?
– С таком, знать, пустыя, ничаво внутрях нетути, – осклабилась старуха, показывая доктору свой почти беззубый рот.
– А… ну, да, ну, да, – стараясь не думать на профессиональные темы, Шимон Моисеевич поспешно сказал: – Мне бы просто хлеба, голубушка.
– Можно и хлебца, – доброжелательно ответила торговка, доставая с самого дна корзины круглый каравай пахучего ржаного хлеба с тремя дырками посредине, будто глазами и носом.
– Сколько с меня? – Обрадованно спросил доктор…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.