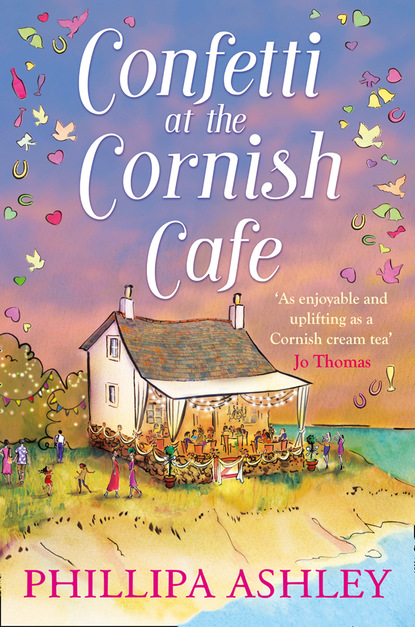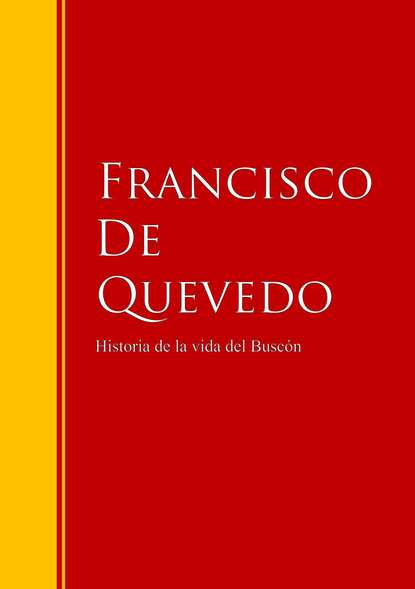Винсент Коэн становится священником, чтобы искупить грехи прошлого, но однажды на пороге его церкви появляется она. Она - искушение, перед которым невозможно устоять. Ее рыжие волосы - символ грехопадения Винсента.
Шестидесятые годы, время политических и социальных потрясений, когда Вьетнамская война и расовые конфликты бросают тень на мир. На фоне общественных изменений семья крупного промышленника переживает раскол. Отец Винсента женится вновь, и Винсент готов принять мачеху, но не сводную сестру. С первого взгляда он ненавидит Лотти, не понимая, что эта "мерзкая рыжая девчонка" станет предметом его запретной страсти.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация