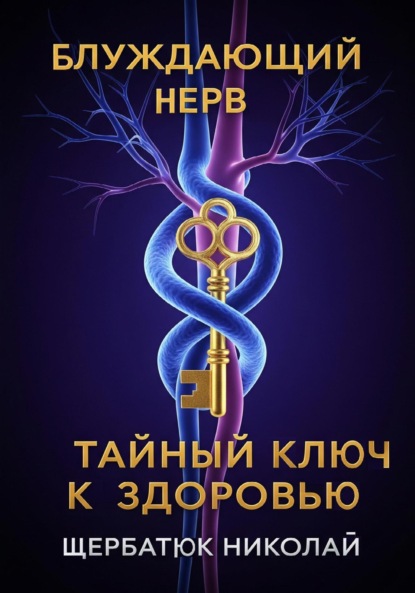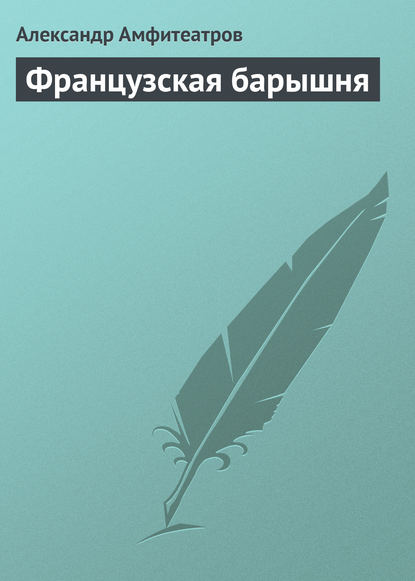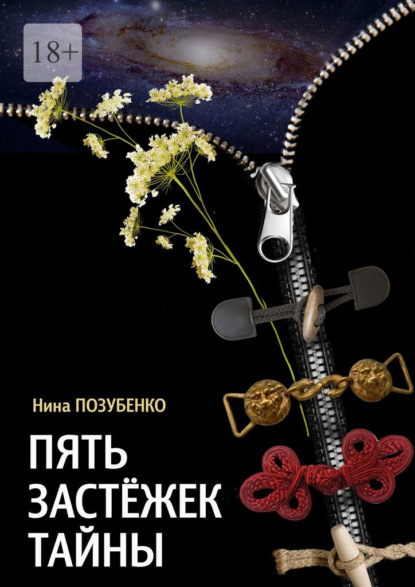- -
- 100%
- +

Налет.
Солнце палило нещадно. Как всегда, в июле калмыцкие степи находились в полной власти горячего беспощадного небесного светила. В уже выжженной степи, казалось, не было никого и ничего живого. Даже суслики, тушканчики, зайцы – животные, которые привыкли к испытаниям этой земли – давно спрятались глубоко под землей в своих норках. Находиться на открытой местности в такую жару – испытание для любого живого существа, граничащее со смертельной опасностью. И только ветер лениво перегонял с места на место округлые кусты перекати-поля. Да кое-где ковыль развевал свою волнистую гриву. Степь как на ладони! Кажется, здесь ни спрятаться, ни скрыться. Но это обманчивое впечатление. Степь не так проста, не так открыта, как может показаться в первый момент. Знаете ли вы, что в степи можно потеряться так же, как и в лесу? Нет? А вот поверьте. Это самая настоящая и жестокая правда. Человека, потерявшегося в лесу больше шансов найти живым, чем пропавшего в степи. Он наверняка погибнет в считанные дни. Всего несколько десятков метров – и ушедшего уже не видно за барханами. Это только на первый взгляд степь кажется ровным полотном. На самом деле, она состоит из самых разных неровностей побольше и поменьше – барханов и ям, холмов и низин, которые часто испещрены оврагами. Последние появляются после дождей в самых неожиданных местах, они словно мигрируют в известном только им и Господу богу направлении.
Летом 1941 года степь была такая же, как и всегда. Ничто не говорило о том, что по стране огромными шагами, растаптывая все вокруг, идет страшная война. Природа жила своей обычной жизнью – известия, приходившие в сводках в населенные пункты, мало влияли на ее привычный уклад. Зато они очень сильно влияли на людей. Была объявлена полная мобилизация. Один за другим по степи на запад уходили эшелоны с мобилизованными. Да, в этой дикой степи был единственный признак цивилизации – железная дорога. Она была еще не достроена – не успели, но теперь стала единственным способом связи дикого юга молодой советской республики со всей страной. Этот юг, прикаспийские земли, включающий калмыцкие степи и дельту Волги, не зря называли диким. Территория, далеко находившаяся от Центра, была мало освоена и мало покорена. Коренные народы, испокон веку, со времен нашествий монголо-татарского ига, населявшие эти земли, упорно не хотели менять свой привычный уклад и подчиняться советской власти. Мало калмыков жили централизованно и оседло. Строившиеся города и деревни многих не привлекали. Даже, наоборот, вызывали стойкое неприятие и агрессию. Кочевники воспринимали советскую власть и наступавшую цивилизацию главными врагами и боролись с ними, как могли. Масла в огонь добавляло и то, что советская власть, проводя коллективизацию по всей стране, изгоняла раскулаченных именно в южные прикаспийские земли. Многие переселенцы были недовольны новой властью. И такие настроения не прошли бесследно. В результате, к началу войны в калмыцких степях сложилась очень тяжелая обстановка.
Недовольные раскулаченные переселенцы и коренные местные жители с такими же настроениями как-то умудрились найти общий язык и объединились в банды. Такие банды доставляли немало хлопот молодым колхозам. Они сжигали урожай, угоняли скот, не брезговали грабежами и убийствами простых селян. Все это осложняло обстановку и взаимоотношения людей. Нередко возникали конфликты на национальной почве. А немногочисленные и плохо укомплектованные отряды милиции слабо с этим справлялись.
Особо крупная банда орудовала вблизи большого населенного пункта как раз с железнодорожной станцией, куда прибывали поезда, связывающие непокорный юг с большой страной. В банде, действительно, состояло большое количество настоящих головорезов из непокорных калмык-кочевников. Старики рассказывали, что главарем у них была женщина, как раз из раскулаченных, русская. Бандиты налетали всегда неожиданно. Они грабили эшелоны с продовольствием, рубили направо и налево своими кривыми саблями. А потом появлялась она. На красивом черном жеребце степной породы, в седле сидела по-мужски. Длинная юбка закрывала ее ноги до самого стремени, под которой были видны красные сафьяновые сапоги, признак богатого купечества. Из сапога она доставала пистолет. Это был маузер времен революции. Стреляла вверх, когда хотела остановить грабеж. Тогда разбойники повиновались и приносили к ее ногам самое ценное. Она отдавала приказы, что делать с награбленным. Исчезала так же стремительно, как и появлялась, уносясь на своем жеребце в неизвестном направлении, оставляя за собой клубы желтой пыли. Никто никогда не видел ее лица, не знал возраста, потому что лицо ее всегда было закрыто цветастой шалью. Потому и ходили самые противоречивые легенды о ее красоте и уродстве, благородстве и жестокости. Подтверждения, однако, легенды не находили. Атаманша оставалась для всех самой большой загадкой. И волновало это не только простых селян, но и представителей власти. Разбойница оставалась неуловимой долгие годы и принесла много бед и страданий жителям прикаспийских степей. Ее одинаково ненавидели и боялись как русские, так и калмыки, потому как ее банда не жалела никого.
Так и жили люди. С такими настроениями и вступил прикаспийский юг войну с фашистами. Не трудно догадаться, что все бандитские группировки оживились в надежде, что фашисты разгромят Советский Союз и помогут им завоевать земли калмыцкой степи и дельты Волги. Немудрено, что ждали они немцев и помогали им, разрушая страну изнутри. А потому участились набеги на эшелоны, и отправка по железной дороге продовольствия для фронта оказалась совсем невозможной, поэтому правительство стало искать другие пути. По железной дороге шли только теплушки с мобилизованными. Казалось, что солдаты, отправляющиеся на фронт, не интересуют бандитов. Но вскоре стало ясно, что это не так. Когда по железной дороге перестали двигаться поезда с горючим и продовольствием, банды затаились на какое-то время, готовя страшное преступление, которое потрясет своей жестокостью весь юг. О нем с содроганием будут вспоминать не только выжившие участники и свидетели событий, но и их потомки. Потому что такого масштабного предательства и такого зверства сложно представить. Но все по порядку.
Степану только исполнилось восемнадцать лет, и он совсем не чувствовал себя взрослым и не понимал, как он будет сражаться с фашистами, но на фронт идти не отказывался: храбрился, показывая всем вокруг свою готовность защищать Родину. Конечно, в мечтах все выглядело героически, но теперь, стоя около поезда с вещмешком за плечами и осознавая, что уезжает неизвестно куда далеко от дома, чувствовал смятение. Будущее виделось весьма неопределенным, и от этого становилось не по себе. Неизвестность и отсутствие жизненного опыта рисовали страшные картины будущего. Ребята на станции были не менее смущены и напуганы, но подбадривали себя и товарищей песнями, анекдотами и прибаутками. На станции царил хаос, приправленный нестройным шумом.
– Стройся! – прокатилось по станции. И новобранцы выстроились в шеренгу вдоль поезда, – По вагонам!
Все стали забираться в теплушки и располагаться на полу, устланном соломой. Колеса застучали по рельсам, и поезд стал набирать скорость. Вагон мерно качался в такт стуку колес. Все внутренне пространство наполнили самые разные звуки: кто-то запел знакомую песенку: «Крутится-вертится шар голубой, крутится-вертится над головой…»; по очереди ребята стали присоединяться к хору нестройных голосов, и уже на всю теплушку гремело: «кавалер барышню хочет украсть». Под общее веселье кто-то подал пример – стал доставать из дорожной сумки немудреную снедь: хлеб, сушеную рыбу, лук. По вагону распространились запахи дорожного обеда. Состав раскачивался, мерный стук колес убаюкивал. Еще кое-где слышались тихие разговоры, но постепенно смолкли и они. Сквозь щели теплушки было видно, что стало смеркаться. Вскоре вагон спал.
Летняя ночь в степи принесла долгожданную прохладу. Луна смотрела с небес на мирно волнующийся ковыль, выбравшихся на поверхность сусликов и тушканчиков, которые торопливо принялись искать пропитание в лунном свете ночной степи. Изредка слышались крики ночной птицы, вылетевшей на охоту. Воздух был наполнен стрекотанием цикад и разноголосыми свистами других живых существ. Казалось, что степь целиком и полностью принадлежит растениям, насекомым и животным. А о людях здесь никогда и не слышали, ведь даже признаков их присутствия не было. Если не считать железных рельс, протянутых среди барханов, по которым, мерно стуча колесами, шел поезд с мирно спящими будущими защитниками Родины.
Паровозный гудок нарушил гармонию ночной степи. И сразу темнота оживилась, засуетилась: заметались по холмам тени. Казалось, что они выскакивают из-под земли, из самой преисподней. В лунном свете тени сверкали искривленным металлом, несущим смерть на своем остром лезвии. Словно саранча, они стали запрыгивать на поезд. И уже через несколько минут он весь был облеплен этой чернотой, скрежещущей и ползающей по всему составу. Паровоз выпустил из трубы гудок вместе с клубами белой в ночи смеси дыма и пара, исполненный безнадежной обреченности и, издавая отрывистые скрипучие звуки, режущие слух, стал останавливаться, неестественно раскачиваясь на рельсах. Весь состав окутала смерть. Черные тени с изогнутыми саблями просачивались внутрь теплушек и там уже рубили и резали всех, кто попадался им на пути. Они безжалостно убивали безоружных людей, застав их спящими и не ожидающими такого предательского нападения. Скрежет и звон металла смешивался с душераздирающими криками умирающих людей. Застигнутые врасплох, они умирали, захлебываясь собственной кровью. И никому из этого ада нельзя было спастись. Безжалостные черные тени направо и налево рубили кривыми саблями, разбрызгивая кровь и разбрасывая отрубленные куски мяса. Они почти не встречали сопротивления. Мобилизованным новобранцам защищаться было нечем – оружия им еще никто не выдал. Офицеры, сопровождающие эшелон, не могли сдержать натиск сильно превосходящих бандитских сил. Сопротивляясь, они отстреливались. В отчаянии кричали безоружным мальчишкам, чтобы те убегали подальше в степь и там пытались найти спасение. Однако было ясно одно: мало кому удастся спастись.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.