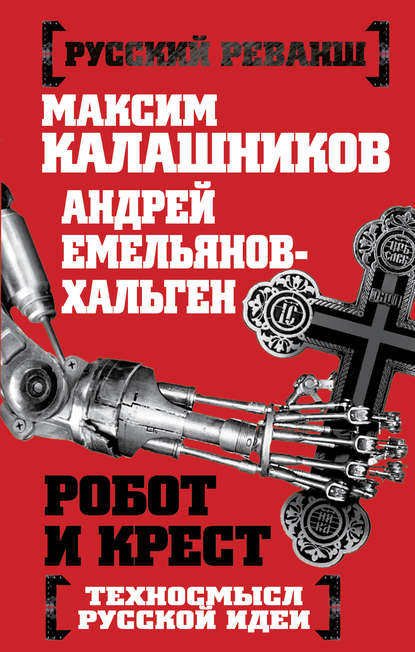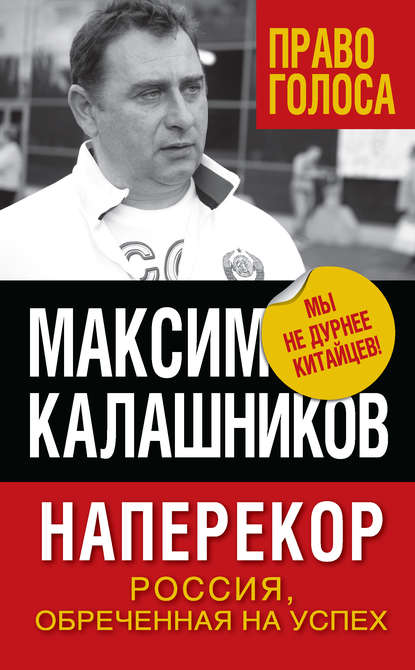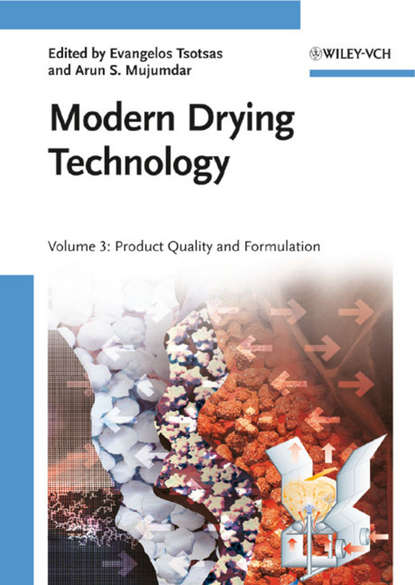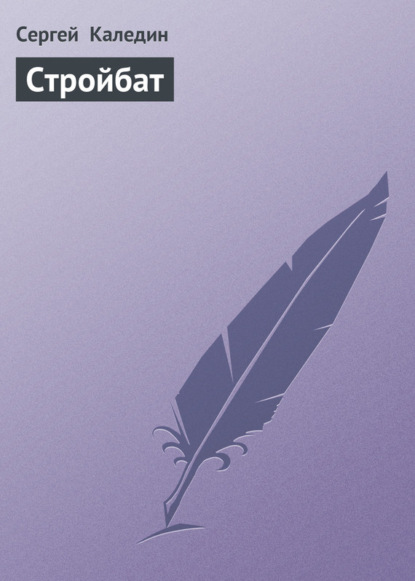Аутентичные мотивы в романе в стихах «Евгений Онегин»
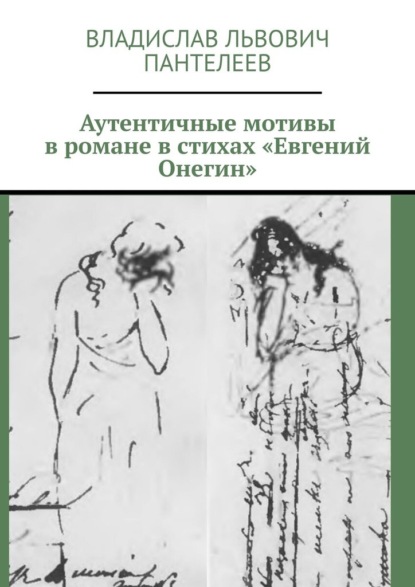
- -
- 100%
- +

© Владислав Львович Пантелеев, 2025
ISBN 978-5-0068-2020-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Аутентичные мотивы в романе в стихах «Евгений Онегин»
А. С. Пушкин в плену у невежд.
Каждое десятилетие приносит поэтов, выдающих себя за хранителей
пушкинских навыков, и это неизменно самые плохие поэты.
Так посредственность распорядилась великим именем, монополизировала его и
сделала А. С. Пушкина самым постыдным орудием худшей литературной реакции.
В течение годов дело этого непринуждённого революционера, жизнерадостного смельчака, этого пламенного оптимиста, двусмысленного, непристойного, невоспроизводимого, непереводимого служило и служит до сих пор, чтобы душить всё молодое, всё буйное, каков он был сам, всё свободное от литературных приличий и беспощадно тормозить эволюцию русской поэзии.
И. М. Зданевич
Роман в стихах «Евгений Онегин» по недоразумению принято считать историей о неразделённой любви. Однако проведённое научное исследование показало, что в самом лучшем творении великого поэта таятся значительно более глубокие смыслы. Над своим «самым лучшим» произведением Александр Сергеевич Пушкин напряжённо трудился около восьми лет, изначально предполагая, что о его печати «не стоит даже думать». Как будет показано в следующих статьях нашего исследования, гениальному поэту пришлось дважды менять фабулу романа, в результате появилась надежда на то, что «с переменой министра авось напечатают» и ради этого великий поэт был «готов хоть в петлю». Поэтому можно смело предположить, что за скудными сюжетными линиями и непроработанными персонажами и открытым финалом скрылось творческое наследие великого литературного гения. Такой ракурс позволяет предложить первую в истории непротиворечивую версию толкования, которая наполняет единым смыслом весь роман, объясняет его во всех его нюансах. И в результате даже позволяет постулировать в виде списка конкретных тезисов ту самую глубину и мудрость поэта, которая до сих пор неявно ощущалась всеми серьёзными исследователями-пушкинистами. На этой основе удалось предложить идею и описать принципы построения первого в истории аутентичного либретто к одноимённой художественной постановке
Обычно попытки разобраться в произведении, созданным конкретным автором в определённом часто не знакомом читателю общественно-историческом контексте, неизбежно предполагают движение от частного к общему, что является логической ошибкой. И напоминают попытку решить систему уравнений с избыточным числом неизвестных. Однако в случае с «Евгением Онегиным» мы имеем дополнительные исходные данные, которые позволяют достроить недостающие уравнения. Среди них значительная сохранившаяся переписка Пушкина, его богатое литературное наследие, а также позиционирование «Онегина» в качестве «лучшего» собственного произведения, которое, как предполагалось изначально, заслужит «кривые толки» и даже «шум и брань!» [1, LX]. Указанные и другие соображения и исходные данные позволят уверенно определить направление анализа романа.
Введение
Самое лучшее, любимое и выстраданное на протяжении десятилетия произведение А. С. Пушкина роман в стихах «Евгений Онегин» неверно трактуется как история о неразделённой любви. Однако при более-менее глубоком погружении в текст великого произведения обнаруживается, что на самом деле оно представляет собой не любовное повествование, а написанное в условиях жёсткой цензуры на рубеже двух эпох (до и после восстания декабристов) политическое завещание великого поэта, над которым он усердно трудился на протяжении почти десяти лет. Единственными темами «настоящей любви» в романе являются: всепоглощающая любовь Владимира Ленского к Ольге Лариной и пламенная привязанность автора к красоте русского края.
В романе в стихах Татьяна Ларина вместе со всеми деревенскими и столичными помещиками на фоне великолепных зарисовок природы символизирует любимую поэтом, при этом больную, неустроенную страну «полурабов, полугоспод» Россию тех далёких лет. В которой Ленский являет собой единственное творческое начало. Персонаж Евгений Онегин с его галлицизмами и образом денди олицетворяет коллективную Европу, в первую очередь, – Францию и Англию.
По сюжету юная и неопытная Россия неумело и безумно переняла культурные традиции [Батюшков, 388—389] и литературу [Батюшков, 383—384] Франции, а также английскую моду [1, XXIII] («влюбилась то ли в ангела-хранителя, то ли в коварного искусителя»). Положительно это закончиться не могло, и в результате в соответствие с модным французским этикетом был убит единственный по-настоящему образованный «пылкий» дворянин Ленский. Какое-то время Татьяну на его могилку за ручку водила младшая сестра. Но после её отъезда с уланом Таня, которая днями и ночами блуждала по округе, почему-то стала обходить место упокоения своего «брата» [7, XIV] стороной. Оно оказалось всеми забыто [7, VII]. Получатся, «воспламенившееся поэтическим огнём под небом Шиллера и Гете» [5, IX] искреннее и пока ещё наивное творчество начинающего поэта в такой недружественной среде так и не успело оформиться. А сам убитый во французском ритуале уникальный положительный герой произведения был забыт равнодушным и на тот момент примитивно организованным родным отечеством. Общество петушковых и скотининых, вероятно, даже не сообразило что потеряло свою единственную надежду на нравственное и интеллектуальное возрождение.
Необходимо осознавать, что в романе в стихах главный женский персонаж Таня Ларина в отличие от Онегина с Ленским не получила никакого воспитания и образования. Отец даже не знал какие книги она читает [3, XXIX], мать была поглощена гостеприимством и хлопотами по хозяйству, а гувернёров Ларины дочерям по какой-то причине не нанимали. В результате обе сестры Ларины в произведении ведут себя крайне недостойно и просто опасно для репутации семьи. Татьяна первой пишет письмо совершенно незнакомому [3, V] ей изгою общества [2, V], образ которого она собрала из романических антигероев. Ольга за десять дней до своей свадьбы в каком-то безумном забытьи танцует с объектом вожделения собственной сестры (!) весь бал напролёт, что приводит к гибели её собственного жениха.
В попытках обосновать поверхностное толкование некоторые исследователи высказывают необоснованные допущения. Например, Юрий Михайлович Лотман безапелляционно указывал на то, что «Татьяна, конечно, владела бытовой русской речью» [Лотман, 221]. Однако в романе об этом нигде не говорится, зато прямо указано:
«Она по-русски плохо знала, Журналов наших не читала И (проживая в русскоязычной среде) выражалася с трудом На языке своем родном» [3, XXVI], – получается, она не вполне понимала [3, XIX – XX] даже собственную няню, – единственного своего близкого человека. Встречаются предположения о существовании глубокой связи между ними, например: «Татьяна в точности повторила модель жизненного подвига, который с детства бессознательно переняла от няни (поэтому она и «русская душою»)» [Studia]. Однако как справедливо отмечал сам Юрий Михайлович, у Тани с няней такой же «социальный конфликт» [Лотман, 218], как со всеми многочисленными [3, XXXIV] соседями. Маленькая девочка грубит ей [3, XXXV], няню это явно эмоционально задевает, но образумить больного ребёнка и предотвратить предосудительный поступок, опасный для репутации всей гостеприимной семьи, она даже не пытается, лишь называет «воспитанницу» несколько раз «больной», «нездоровой». Скорее всего Таня просто неуправляемая. Кроме того, в романе не описано никакого «жизненного подвига», который можно было бы перенять от няни. В таком случае возникает закономерный вопрос о природе подобных предположений.
«Дика, печальна, молчалива», Татьяна Ларина пряталась от людей. Нелюдимая и плохо знающая русский язык, она росла на сентиментальном «вредном вздоре» [3, XXXI], без которого «была бы совершенно немым существом» [Белинский, 414].
Пушкин явно иронизирует [ср. 7, XX] над главной героиней. Находясь в православной среде, Таня верит тому, что в Православии находится под прямым запретом: «карточным гаданьям, предсказаниям луны и приметам» [5, X]. И когда она ночью «в открытом платьице» [5, IX] подбегает на цыпочках к первому встречному мужику и спрашивает у него имя «суженого», слышит в ответ: «Агафон», – имя, которое употреблялось только между простолюдинами. А ведь «лексической окраской имен задается лексическая тональность произведения» [Тынянов, 96].
В романе маленькая [3, XVIII] [5, XLV] [8, XLV, ср. 8, XX; XXVII; XLIII] девочка постоянно замирает перед окнами [2, XXV] [3, V; XХХVII] [4, XI] [7, XLIII] либо бесцельно бродит [3, XXXVIII] [7, XV; XXVIII; LIII], днём и ночью [7, XX], наяву и в грёзах [5, XIV]. А ещё постоянно дрожит [3, XXXVI; XXXIX] [5, VI], иногда с высунутым языком [3, XXXII]. Пушкин посреди «болтовни» [Пушкин: 1977, 59] [Пушкин: 1977, 180], которой тщетно пытался научить будущих декабристов, старательно на протяжении всего романа в стихах описывал у патологически бледной деревенской девочки пугающую болезненную клиническую симптоматику. Воображаясь «жеманными»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.