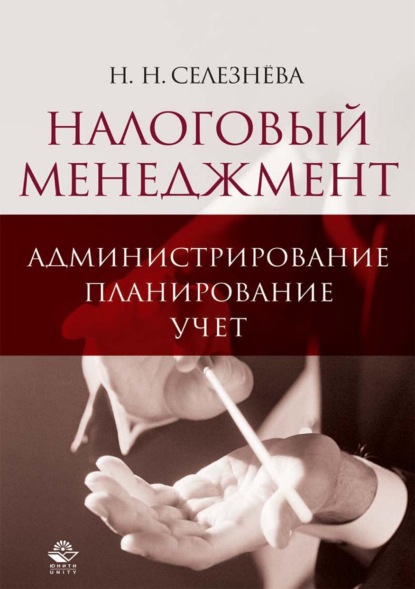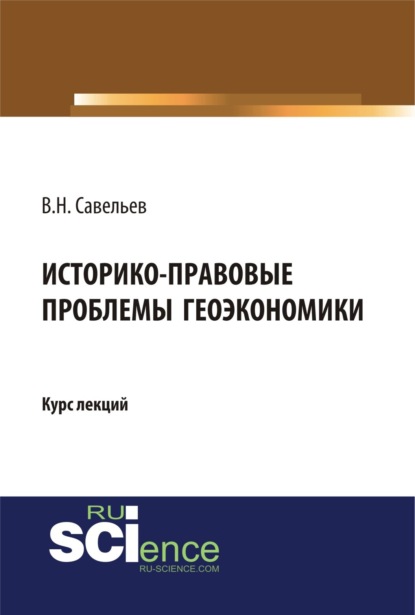- -
- 100%
- +
В доме на тот момент действительно лежало раскроенное платье «на заказ». Было оно, естественно, из крепдешина – бабушке заказывали исключительно из дорогих материалов, потому что она была портниха высокого класса. Самое ужасное, что кроме этого раскроенного платья, в доме находился еще один «отрез» (так тогда называли) крепдешина – его принесла накануне заказчица. Бабушка не хотела брать новый заказ, не выполнив первый, однако заказчица настаивала, просила едва не слезно. И бабушка сдалась – взяла, пообещав, что начнет шить сразу после того, как сошьет уже раскроенное. То есть в доме шились сразу два крепдешиновых платья! Если бы их нашли, последствия могли оказаться тяжелыми.
Я не знаю, почему все это – раскроенное платье и чужой «отрез» – оказалось под матрацем. Возможно, бабушка всегда прятала свою незаконную работу под матрац. Возможно, она успела спрятать улики, заметив в окно приближение процессии. Мама рассказывала мне, что когда «комиссия» вошла в дом, она сразу же села на эту кровать, на то самое место, под которым был спрятан чужой крепдешин. В бабушкином крохотном домике не было прихожей, с улицы входили в кухню, да, по сути и комната была отгорожена от кухни только печкой. При виде входящих «гостей» мама опустилась на кровать, возможно, просто от испуга, а возможно, интуитивно почувствовав, что надо как-то крепдешин прикрыть, хотя бы своим телом. И сидела там ни жива, ни мертва, бледная, со сжатыми губами, все время обыска. Более крепкая духом бабушка показывала «гостям», что они желают посмотреть: открывала шкаф, тумбочку, разворошила диван.
Что случилось бы, если б «комиссия» нашла тот раскроенный крепдешин? Ну, оштрафовали бы. Не знаю на какую сумму. Еще отобрали бы чужой крепдешин и чужое раскроенное платье, а возможно, и швейную машинку. Кроме швейной машинки ничего ценного у бабушки не имелось. Ножная швейная машинка «Зингер» была куплена ею после войны. Точно такая же машина «Зингер» пропала у бабушки в период оккупации Смоленска. Она эвакуировалась в июле 1941 года в Татарстан, на Волгу, а когда вернулась в Смоленск в сорок третьем, после освобождения, никаких вещей здесь не оставалось. И не могло остаться: Смоленск весь был сожжен. Другие вещи восстанавливать, конечно, у нее не было сил и средств, но машинку как необходимое орудие труда восстановила.
Бабушкина ножная швейная машинка «Зингер» и сейчас стоит у меня в доме. Машинка давно не работает. Полированную крышку пришлось заменить на простую доску, приводной ремень из прочной кожи разорван, колесо и весь ножной приводной механизм вечно пылятся. Машина занимает место, на которое можно было бы поставить, например, книжный шкаф или удобное кресло. Или оставить пустым – для воздуха.
«Выброси!» – говорят одни. «Продай» – советуют другие. Я ни за что не выброшу и ни за какие деньги не продам эту машину. Я люблю смотреть на ее узорчатую лягушачью станину, на чугунные буквы SINGER в чугунной же горизонтально вытянутой рамке, застывшей в окаймлении четырех лягушачьих лап; на двух вполне реалистичных лягушек, распластанных по бокам на решетках станины… В детстве, ползая под машинкой в поисках годных для куклы крепдешиновых лоскутков, я с любопытством разглядывала чугунных, с растопыренными лапами, лягушек вблизи, интуитивно воспринимая их как основу творения, фундамент мира. В студенческие годы с удивлением узнала, что именно так классифицирует хтонических существ славянская мифология.
Думаю, что так же – вполне мифологически – воспринимали машинку «Зингер» и бабушка с мамой. Этот фундамент не должен был рухнуть. Вот почему мама, сцепив на коленях руки, сжав губы, в полуобморочном состоянии сидела на кровати в том месте, где под матрацем были спрятаны «улики»: раскроенное чужое платье и чужой отрез крепдешина. Вот почему бабушка, такая же бледная, как мама, с независимым «королевским» видом наблюдала стоя, как выворачивали из шкафа перед соседями ее латаное бельишко. Нашей семье нелегко было бы расплатиться за два отреза крепдешина, уже не говоря о штрафе. Потеря машинки «Зингер» казалась немыслимой в принципе.
Почему «комиссия» не нашла этот злосчастный крепдешин? Так естественно было попросить маму встать и осмотреть постель… Почему они не сделали этого? Вряд ли на «комиссию» произвела сильное впечатление бедность жилища – тогда многие так жили. Да и открыт был дом бабушки для соседей, некоторые члены «комиссии» там бывали раньше.
Возможно, председатель уличкома Катерина не догадалась о тайнике под матрацем. Возможно, соседи, члены уличкома, постеснялись поднимать сидящую на кровати в полуобморочном состоянии насмерть испуганную маму. А может быть, единственный профессионал – участковый Потапов, привычный к обыскам и, надо полагать, умеющий проводить их профессионально, – не очень хотел найти крамольный крепдешин? Он хорошо знал всех жителей улицы, знал и нашу семью.
Не меняя бесстрастного «милицейского» выражения лица, он первым сделал шаг от распахнутого, разоренного шкафа к порогу (портупея скрипнула), отодвинул ногой в начищенном до блеска сапоге выпавшее из связки дров возле жарко пылающей печной топки березовое полено, еще раз строго кивнул бабушке (или строго покачал головой?), отворил дверь (дверь скрипнула, как бы перекликаясь с кожаной портупеей участкового)… Впуская холод, вслед за участковым в открытую дверь устремилась «комиссия». Морозный воздух радостно ворвался в натопленную крохотную кухню, снежный вихрь закрутился в дверном проеме, проник в дом, мгновенно опадая, оседая в теплом помещении в виде мелких капелек на крашеном полу, на вязаном из лоскутков круглом половике. Бабушка, согнув, наконец, ватные ноги, бессильно опустилась на кровать рядом с мамой.
Часть вторая: Встать в строй.
1. Мой первый выход в строй.
В школу я пошла в 1955-ом году. Папа в начале этого года был направлен на работу в село как «трицатитысячник» – было такое движение для поднятия сельского хозяйства. Он жил теперь вдали от нас, в поселке Кардымово, читал лекции по селам, а к нам приезжал на воскресенье. Наша семья оказалась на целых четыре года неполной: кроме меня, мама, сестра Дина и тетя Маня. В школу провожать меня пошли мама с сестрой. Нас, первоклассников, помнится, собрали в один из последних августовских дней – это было еще не учебное, а организационное мероприятие.
В большом актовом зале средней школы №7 (до революции там была Первая мужская гимназия) собрались все первоклассники с провожающими: мамами, папами, сестрами, братьями… Классы формировались на сцене. Объявили: «Первый класс „А”!». И на сцену поднялась учительница этого класса, начала читать список учеников. По мере называния дети поднимались на сцену, выстраивались ровным рядом вслед за учительницей. Когда был оглашен весь список учащихся класса «А» и дети вслед за учительницей строем покинули сцену и пошли в класс, мама с сестрой огорчились: они считали, что в «А» классе лучше учиться. Дина училась в «А», перешла уже в шестой класс, мама в свое время тоже училась в «А». Но я туда не попала. Когда выяснилось, что я не попала и в «Б», и в «В», они опечалились еще более…
Процедура заняла довольно много времени: в каждом классе было по сорок с лишним человек. Я все это время очень волновалась: когда же вызовут? И как это я пройду одна по залу, поднимусь на сцену?
Дело в том, что я, в отличие от большинства детей, не посещала детский садик. По городу я ходила за ручку с тетей Маней, или мамой, или, в крайнем случае, с сестрой. Поэтому я с большим волнением ожидала своего одиночного выхода на сцену. Когда же, наконец, меня назвали в списке «Первого „Г”», я растерялась. То есть до сцены еще как-то (не помня себя и ничего не видя вокруг) добежала, поднялась по боковой лесенке на возвышение… Но оказавшись на сцене и оглянувшись с ее беспримерной высоты на огромный, колыхающийся головами и слабо жужжащий зал внизу, растерялась совсем. И вместо того, чтобы встать в строй, как делали другие дети, заметалась по сцене. От ужаса почти ничего не видя и не зная, куда мне приткнуться.
Меня спасла Людмила Ивановна. Высокая, строгая и красивая, хотя и чересчур молодая для учительницы женщина неспешно подошла ко мне прекрасной театральной (очень уместной на этой сцене) походкой, твердо и ласково взяла за ручку и отвела куда надо. То есть в строй.
2. Баранки, или Пронзительная мелодия детства
Нашей учительнице было восемнадцать лет. Она только что окончила Смоленское педучилище и была принята на работу в школу №7, одну из лучших в городе. Дали ей, конечно, самый тяжелый класс. Людмиле Ивановне на первых порах трудновато приходилось. Однако ее упорство в сочетании с несомненным педагогическим талантом и приверженностью к работе учителя дали свои плоды. К четвертому классу мы стали лучшими в своей параллели. А уж любили Людмилу Ивановну, как ни одну учительницу позже… Она была прекрасная, внимательная и… строгая! Моя история про баранки связана со строгостью Людмилы Ивановны.
Это произошло, когда я училась во втором классе. В школу мы приносили обычно «завтраки» из дома. В основном, бутерброды. У меня это были, как правило, два кусочка батона, смазанные сливочным маслом, уложенные масляной стороной друг к другу и завернутые в газету. Да-да, тогда бутерброды заворачивали в газету, это нормально было! Иногда в оберточную бумагу, но чаще в газету. Осенью к моему «завтраку» добавлялось яблоко из бабушкиного сада. Случалось, вместо бутербродов была булочка «выборгская», с повидлом внутри. А в тот день мама дала мне с собой две баранки.
В детстве я была малоежка. Про «завтрак» частенько забывала. Вот и в тот день я как-то забыла про школьный завтрак. Баранки, завернутые в газету, нетронутые лежали в портфеле. Четвертым, последним, уроком у нас было пение.
Тут надо вспомнить, что все уроки в младших классах ведет один и тот же учитель. Исключение делается для физкультуры и пения. Впрочем, физкультуру в нашем классе Людмила Ивановна тоже вела сама. А вот пение было отдано Марье Ивановне. Марья Ивановна – средних лет женщина, с шестимесячной завивкой, с вечным баяном на одном плече – вела пение во всей нашей параллели. Пение свое она любила и преподавала хорошо. При этом была беззлобная и не очень следила за дисциплиной. На ее уроках было шумновато. Она рассказывала про ноты, разучивала с нами песни…
В тот день Марья Ивановна рассказывала нечто теоретическое. Урок был последний, мы устали. В середине урока я вдруг почувствовала голод и вспомнила, что мой школьный «завтрак» – две прекрасные свежие баранки – лежит у меня в портфеле. Не вынимая «завтрак» из портфеля, я запустила в портфель руки, потихоньку проделала в газете дырку и отломила кусочек баранки. Совсем маленький, чтоб незаметно было, как жую. Оказалось, очень вкусно! Я так же осторожно отломила второй кусочек…
И тут один мальчик, не буду называть его имя (жив ли он сейчас?), поднял руку и, глядя на Марью Ивановну честными детскими глазами, пожаловался: «Марья Ивановна, а Люда Горелик кушает баранку!». Я замерла. Как стыдно! Что теперь будет?! Однако не случилось ничего. Марья Ивановна лишь на минуту прервала свой рассказ, внимательно посмотрела на меня из-под очков и продолжила урок. Сейчас я понимаю, что эта добрая женщина не хотела из-за пустяка ругать неплохую, вроде бы, ученицу, полагая, что строгого взгляда будет достаточно.
О, как она ошибалась! Я не совсем понимаю, какая муха тогда меня укусила. То ли я так безумно хотела есть? То ли (это скорее) меня раздражало, что наблюдательный мальчик, пожаловавшись, удвоил внимание: теперь он и вовсе не сводил с меня глаз. Этот принципиальный мальчик, наверно, твердо решил не допускать нарушения дисциплины на уроке пения. И под его пристальным взглядом я опять, тихонько, но упрямо, отломила кусочек баранки…
Очень быстро выяснилось, что смотрел на меня теперь уже не один мальчик. На этот раз пожаловалась девочка (разумеется, я «поименно помню тех, кто поднял руку», однако из соображений гуманности не буду называть и ее имени).
Марья Ивановна, видимо, растерялась: она не была прирожденным педагогом и просто не знала, как поступить в данной ситуации. Поэтому, выслушав девочку, она без каких-либо эксцессов продолжила урок. Однако теперь уже никто не слушал про скрипичный ключ! В классе было тихо, как никогда не бывало на уроках Марьи Ивановны. Весь класс с интересом смотрел на меня. А я… я по-прежнему потихоньку доставала из портфеля и ела баранку…
На другой день я, конечно, ни про вчерашние баранки, ни про ябед вовсе не думала. Не забывайте: нам было по восемь лет, мы далеко не все понимали, а многое понимали совсем иначе, чем взрослые. Нравственное сознание в значительной мере складывалось именно тогда – из мелочей, из преступлений и наказаний… Вероятно, я и не вспомнила бы сейчас эту историю, не имей она продолжения.
Страшное, невозможное неблагополучие я почувствовала сразу же, с самого начала первого урока. Произошло это так. «Вторую смену» у нас в школе до звонка выше первого этажа не пускали. Как и многие другие, время перед звонком я проводила в школьной библиотеке. Она находилась на первом этаже, туда можно было зайти беспрепятственно. В тот день я увлеклась детским журналом «Мурзилка» и пропустила звонок. Спохватилась, когда уже одна в библиотеке осталась. Бегом побежала в свой класс. Влетела после второго звонка: «Можно сесть на место?» Так полагалось спрашивать. Я понимала, что хвалить меня не за что, не за опоздание же. Но Людмила Ивановна смотрела как-то уж слишком неодобрительно-отрешенно… «Где твой портфель?» – сказала она, наконец. И глаза у нее были чужие. «Ой, в библиотеке забыла! Можно за ним сходить?» И опять Людмила Ивановна посмотрела отрешенно, кивнула, однако как-то неопределенно, как будто и кивать-то мне не хочет…
Поначалу я надеялась, что это случайность, что мне показалось. Но уже на первом уроке стало ясно: нет, не случайность. За весь урок Людмила Ивановна не спросила меня ни разу! Хотя я тянула руку изо всех сил, а к концу урока от отчаяния уже почти из себя выпрыгивала.
На втором уроке случилось ужасное. Людмила Ивановна раздавала тетрадки – обычно она давала по маленькой стопочке тетрадок желающим помочь. Мне давала всегда: потому что я читала очень хорошо, а значит, раздавала тетрадки быстро и правильно. В этот раз она, почти не глядя, рассовывала тетрадки маленькими пачечками в протянутые к ней со всех сторон руки, и мне почти уже вложила в руку… О, как я их схватила! Но, взглянув на меня, она вдруг мгновенно отвела свою руку с тетрадками…
Как это было пережить? С большим трудом, огромным усилием воли я сдерживала слезы – стыдно расплакаться при всем классе. А ведь внутри у меня все рыдало. На перемене я побежала на первый этаж – там был туалет с отдельными кабинками, там можно было выплакаться вволю. И на следующей перемене я тоже ходила туда плакать.
Людмила Ивановна не ругала меня. Хуже: она просто не хотела меня знать. За опоздание? Или за баранки? А может быть, за портфель? От неизвестности было еще тяжелее.
Не знаю, что было бы со мною, если б любимая учительница продолжила экзекуцию и на следующий день. Вряд ли я это смогла бы пережить. Однако, отпустив нас домой, она вдруг сказала: «Люда Горелик, останься!».
После всего испытанного в этот день разговор показался мне совсем легким. Людмила Ивановна спросила про баранки. Я от всей души, искренне и охотно раскаялась в своем поведении. Вместе мы отправились искать Марью Ивановну. Нашли в цокольном этаже. В той старой школе был цокольный этаж – мрачный, холодный; там располагались помещения для уроков труда и какие-то кладовки. Там всегда было сумрачно и полупустынно. Увидели мы учительницу пения издали. «Ну, беги», – сказала Людмила Ивановна. Радостно я кинулась к Марье Ивановне, попросила прощения. Та растроганно улыбалась. И так же растроганно улыбалась Людмила Ивановна. Она смотрела на нас издали и кивала… Цементный пол, мрачные своды полуподвала, вечный холод цокольного этажа, пудовые замки на дверях кладовок – все, все стало легким, радостным…
3. «…ских войск, или уроки пения.
В годы моего детства многие родители отдавали детей в музыкальную школу. Считалось, что дети должны развиваться гармонично, уметь играть на фортепьяно. И вообще это было… модно, что ли. Возникала мысль о музыкальной школе и у моей мамы. Сама она в детские годы музыке училась, запомнив, впрочем, более всего то, как весело было на пару с подругой прогуливать в «музыкалке» уроки. Тем не менее, когда подошло время, она захотела обучать музыке и нас с сестрой. «Возьмем пианино напрокат, – говорила она папе. – Уберем из того угла этажерку, передвинем плотнее кровати – и поставим инструмент. А со временем купим свой, пусть играют».
Папа сидел на продавленном диване – как всегда, с дымящейся сигаретой в руке, в окружении разбросанных по дивану, обеденному столу и даже по полу газет и журналов, перед громоздкой радиолой, из которой бойкий мужской голос, пробиваясь сквозь вой и писк глушилок, произносил трудноразличимые слова. Рядом болтался маленький однопрограммный динамик и тоже что-то вещал. Телевизора тогда еще не было, но позже папа и его включал, если шла информационная или аналитическая программа. Папа имел особенность слушать и читать сразу все. Маму он тоже слышал. Поэтому после ее слов слегка прикрутил звук и задумался. Вид у него был недовольный.
– А надо ли это? – сказал он наконец. – если бы у них были способности к музыке, тогда, конечно. Но ведь слуха нет у обеих, петь не умеют… И как ты это представляешь в одной комнате?! Это же несколько лет – пока выучатся – у тебя над ухом бренчать будут!
В общем, в музыкальную школу нас не отдали. Музыкальные основы я постигала на уроках пения. Учительница пения Марья Ивановна была женщиной лет сорока, запомнившейся непременно с баяном. Если она на нем не играла, то он свисал у нее с одного плеча, отчего плечо перекашивалось. Так и шла она по плохо освещенному коридору Седьмой школы, в прошлом Мужской гимназии №1 (теперь там вновь гимназия): среднего роста, слегка грузноватая, с химической завивкой, с баяном через плечо.
Марья Ивановна не стремилась быть педагогом, зато очень любила пение и музыку. На ее уроках мы часто «духарились». Не знаю, существует ли сейчас это слово. Тогда оно было популярно среди школьников и означало что-то вроде «веселились» – но с оттенком баловства и непослушания. Даже если мы сильно духарились, Марья Ивановна все равно продолжала урок – как ни в чем не бывало. Запомнились ее рассказы про скрипичный ключ и нотные знаки. Класс духарился, однако некоторым было интересно (мне в том числе), и они слушали внимательно. Марья Ивановна для них и рассказывала, как бы не замечая остальных. Иное дело, когда пели хором (в основном, этим и занимались). Тут должны были участвовать все. И участвовали – может быть, потому что пение увлекало, петь было даже интереснее, чем духариться.
Песни мы пели исключительно патриотические, о Гражданской войне – не знаю, требовала ли этого учебная программа или же имел место личный выбор учительницы. Так, например, мы разучивали «Песню о Щорсе». Она более известна по первой строчке «Шел отряд по берегу…». Это была грустная, но и героическая песня о безвременной гибели красного командира.
Но особенно запомнилась песня «Там вдали за рекой…». Она была тоже о герое гражданской войны, однако безымянном, рядовом бойце – может быть, поэтому такая печальная. Эта нравилась даже больше. Возможно, потому что трогала безвестность героя – на его месте легко было представить себя. Трогал его предсмертный разговор с конем («Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих») и готовность к гибели за правое дело. Мы тоже были готовы погибнуть «за рабочих». Да, со слезами на глазах. Важно и то, что песня одновременно трогательная, печальная, но и героическая – о непременной конечной победе. Даже несмотря на гибель героя. Мы разучивали ее весь год.
Весь мой третий класс прошел под знаком этой песни. На каждом уроке пения отводилось тридцать минут на ее исполнение. И мы с удовольствием пели! Марья Ивановна упорно добивалась, чтобы пели мы верно, не фальшивя. Нет, она никогда не говорила «Ты, Иванов, не пой – тебе медведь на ухо наступил». Она учила, показывала и добивалась, в конце концов, что несчастный покалеченный медведем Иванов начинал петь правильно. И я до сих пор пою эту песню правильно. (Редкий для меня случай).
Особое внимание Марья Ивановна проявляла к сочетанию «… ских войск».
Сотня юных бойцов из буденновских войск
На разведку в поля поскакала….
Вот это «… ских войск», должно быть, имело особую важность в музыкальном отношении. Марья Ивановна показывала, дирижируя рукой «… ски-и-их войск». Потом слушала нас – переложив баян на одно плечо и оттопырив освободившейся рукой ухо… потом слушала каждого отдельно… И опять показывала. В общем, я имею основания гордиться тем, как я пою «…ских войск».
И в трудную минуту жизни, во дни сомнений и тягостных тревог, или раздумий, или, например, в период пандемии, проснувшись утром в мокрой от пота постели, трясясь от боли и страха, надтреснутым и хриплым, и прерывистым от неизвестной болезни голосом я пою песню «Там вдали за рекой…». И тяну (в соответствии с нотами – совершенно так, как если бы у меня был музыкальный слух!): «…ск-и-их войск». И, вытирая глаза пододеяльником, сочувствую безвестному бойцу, и верю в непременную конечную победу.
А если бы в годы моего детства у нас были, например, две комнаты, и меня отдали бы в музыкальную школу, я, проснувшись в печали, играла бы, например, Моцарта. Или Шуберта. Но и «Там вдали за рекой…» тоже очень хорошо.
5. Снегурочка и инспектор.
В тот весенний день мне исполнилось девять лет.
С утра меня, однако, никто особо не поздравлял: утром все спешили. Мама ушла на работу. Еще раньше ушла в школу сестра-семиклассница. Я училась во вторую смену; в первой половине дня мы оставались в нашей комнате вдвоем с тетей Маней. И вдруг пришла бабушка и подарила мне на День рожденья шесть рублей! Такой крупной суммы у меня никогда еще не было. Случалось, что мне давали рубль, но не больше.
Здесь следует пояснить, что объективно шесть рублей и тогда отнюдь не представляли собой существенную сумму. Ведь действие происходило еще до денежной реформы 1961 года, когда стоимость рубля выросла в десять раз.
В ту пору, рубль был стандартной суммой, изредка выдаваемой детям на целевые, хотя и необязательные, траты: купить в школьном буфете два жареных пирожка с повидлом, или сходить в кино, или съесть самое дешевое молочное мороженое. После 1961 года на эти нужды стали давать десять копеек… А в 1957 году стандартной суммой, выдаваемой ребенку, был рубль; больше рубля мне еще никогда не давали. Поэтому я очень обрадовалась шести рублям. Более всего меня воодушевляла возможность сделать самостоятельную большую покупку: купить какую-нибудь игрушку, например… Не потому, что она мне нужна. Просто это было необыкновенное, интересное событие: совершенно самостоятельно, без участия родителей пойти, выбрать и купить. Мне, конечно, приходилось и раньше самостоятельно ходить в магазин. Однако это было совершенно другое. Это меня «посылали» за обыденными покупками для семьи – за молоком или хлебом,.
Случилось так, что почти сразу после бабушки пришла моя одноклассница Валя. Она просто так зашла, мы ходили иногда друг к другу в гости. Телефонов у нас не было. Мои шесть рублей она восприняла почти так же радостно, как я. Для детей той поры это было большое и занимательное приключение: самим потратить на свои нужды некую собственную сумму…
Времени до школы оставалось уже не так много, и мы с Валей заспешили в магазин: потратить деньги немедленно – это было совершенно необходимо! Тетя Маня отпустила меня легко, она понимала наше желание как можно быстрее осуществить покупку. Напротив дома, где мы жили, был магазин, в котором продавали галантерею и вообще мелкие товары, даже игрушки. Мы помчались туда: в другие магазины уже не успевали.
Нас ожидало, однако, разочарование: почти все хоть сколько-то привлекательные товары стоили дороже шести рублей. Такая крупная сумма, а не хватает… Что же делать? Отложить покупку не приходило в голову: сейчас, только сейчас! Мы горели нетерпением что-нибудь купить. Но что?
По цене подходила лишь Снегурочка. Вероятно, эта небольшая фигурка в белой пластмассовой шубке до пят, с пластмассовой желтой косой, выпущенной из-под голубой пластмассовой шапочки, с кривовато нарисованными на розовом личике бледно-голубыми глазами осталась стоять на полке с Нового года. Сейчас, в апреле, она была никому не нужна. Кроме нас! Главное ее достоинство заключалось, конечно, в цене: она стоила шесть рублей! Ну, нечего делать – придется брать Снегурочку, решили мы. Больше ни на что денег не хватает.