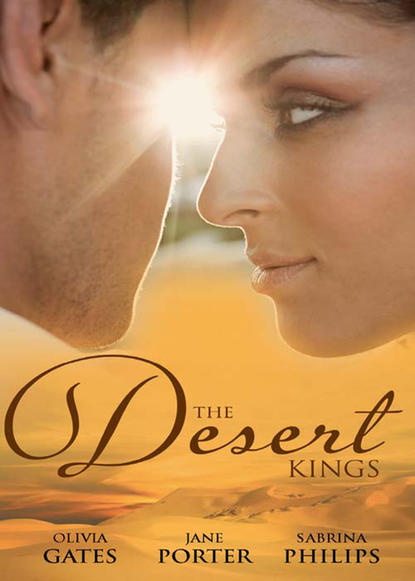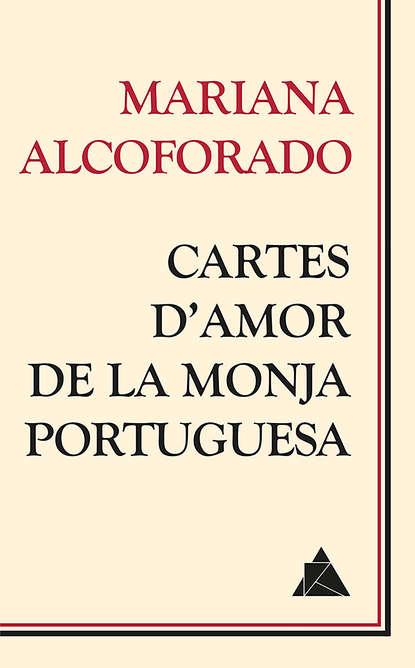- -
- 100%
- +
Разочарование подстерегало, однако, и здесь. Когда я протянула продавцу мои собственные прекрасные, замечательные 6 рублей (кассы в магазине не было), выяснилось, что Снегурочка стоит 6 рублей 10 копеек. Цена на ценнике была указана верно, просто на такую мелочь, как десять копеек, мы с Валей в спешке не обратили внимания.
Десять копеек даже нам, детям, казались суммой несущественной. До реформы 1961 года за 10 копеек нельзя было купить вообще ничего. Это была даже меньшая сумма, чем одна копейка после реформы. Коробка спичек стоила до реформы 12 копеек.
Но вот оказывается, что без этих никчемных десяти копеек нам не дают Снегурочку! Что же делать? Поначалу мы решили поискать на полу – вдруг где-нибудь валяется? Мелочь ведь часто роняют… Пол был грязный, плиточный. Туфли, ботинки взрослых шаркали по нему, а мы, низко склонившись среди этих ботинок, искали… На полу валялся обрывок газеты, спичка,… Деньги не валялись. Что же делать? Возвращаться домой и просить у тети Мани было слишком долго: имелся риск не успеть собраться в школу. И мы решили, что такую мелочь, такой несущественный пустяк нам, в принципе, может предоставить любой взрослый. Ну что такое 10 копеек для взрослого человека!?
Первой отважилась обратиться к незнакомой тетеньке более смелая Валя, а я последовала ее примеру. Очень робко, сильно стесняясь, спросила какую-то тетю, потом, помедлив, вторую. Объясняла, что этой крохотной монетки не хватает на Снегурочку. Обе молча отвернулись и, кажется, были недовольны. Жадные какие-то попались – подумать только, 10 копеек жалко, а ведь за них ничего нельзя купить! Третья тетенька – средних лет приличная женщина в драповом пальто и в маленькой модной шляпке – проявила к моей просьбе интерес. Она неожиданно сильно взяла меня за плечо и спросила строго: «А где ты живешь?». Я поняла ее так, что детям нельзя одним уходить далеко от дома и поспешила успокоить: «Я живу совсем рядом – в доме напротив!». Однако вместо того, чтобы обрадоваться и выдать мне 10 копеек, тетенька продолжала крепко держать меня за плечо и спрашивать: «А есть ли дома кто-нибудь из старших?». Поскольку я была девочка воспитанная и знала, что на вопросы взрослых следует отвечать, я рассказала ей, что дома сейчас одна тетя Маня, а мама на работе, а папа живет не с нами, он только на воскресенье приезжает. Все это я рассказывала спокойно, думая, что тетя, убедившись в моем полном благополучии и хорошем воспитании, выдаст мне 10 копеек и мы с Валей (которая теперь скромно стояла в сторонке, тоже ожидая, что эта тетя поможет), купив Снегурочку, пойдем собираться в школу.
Я не очень испугалась, когда тетя попросила проводить ее ко мне домой. Я истолковала это желание как недоверие к тому, что действительно живу близко – а не расхаживаю одна по всему городу, чего детям делать нельзя. Кивнув Вале (которая – потом выяснилось – подумала, будто я встретила знакомую) я повела тетю (она взяла меня за руку) к нашему дому. По дороге она продолжала что-то спрашивать, я отвечала.
Испугалась я, когда мы входили к нам во двор. Под низкой каменной аркой тетя вдруг сжала мою руку крепко-крепко, до боли. Вероятно, она решила, что, заведя ее в этот хмурый пустынный дворик, маленькая уголовница (то есть я) рванется, нырнет куда-нибудь между сараями и убежит в другой двор – только ее и видели. Грубое, болезненное (она почти вывернула мне руку) движение тети меня испугало, я заплакала, уже совсем ничего не понимая – только очень страшно было.
Дверь в нашу коммуналку днем не запиралась. Тетя Маня, увидев меня всю зареванную рядом с незнакомой женщиной, испуганно поднялась со стульчика. У нас имелся такой маленький стульчик, детский. Если поставить его около батареи, было очень тепло и удобно сидеть. Тетя Маня любила штопать чулки, сидя на маленьком стульчике, привалившись спиной к теплой батарейке. И тут мы: громко ревущая, с растрепавшимися косами я и начальственного вида строгая тетя в жестком драповом пальто и крохотной, плохо сочетающейся с ее обликом, шляпке. Тетя Маня встала нам навстречу, испуганно хлопая ресницами. Из монолога драповой тети я поняла только то, что она Инспектор Детской комнаты милиции, это напугало меня страшно. В чем состоял мой проступок, я по-прежнему не понимала (не в том же, что я попросила 10 копеек?!), однако сразу поверила тете, что он ужасен, и рыдала, захлебываясь, и не могла остановиться. Теперь меня посадят в тюрьму. Я вспоминала тюремную машину «Черный ворон», которую давно, еще до того, как я пошла в школу, тетя Маня показала мне на улице. Это была большая черная машина с закрытым железным кузовом, в котором имелось крохотное зарешеченное оконце… Тетя Маня была на всю жизнь перепугана тюрьмой, так как ее муж, в конце сороковых арестованный по не слишком серьезному уголовному обвинению (украл буханку хлеба), почти сразу там умер. Сейчас тетя Маня, как и я, не понимала суть моего преступления, однако тоже верила, что оно ужасно. Мы обе с тетей Маней не сомневались, что меня ждет тюрьма. Она обреченно и покорно хлопала ресницами, а я громко всхлипывала, так как уже не хватало сил рыдать.
Откровенно понаслаждавшись своей неограниченной властью над нами, Инспектор велела вызвать с работы маму. Мамина библиотека была недалеко, на той же улице. Тетя Маня просто сбегала за ней.
Мама пришла очень скоро. В отличие от нас с тетей Маней она быстро вникла в суть дела: меня обвиняли в попрошайничестве. Теперь, анализируя происшедшее, я думаю, что вела себя мама правильно. Прежде всего, она умыла меня холодной водой и велела собираться в школу. Она, конечно, знала, что я не занималась попрошайничеством, а, будучи ребенком сугубо домашним, всего лишь проявила детскую наивность. Тем не менее, мама с Инспектором не спорила. Она легко согласилась, что должна больше внимания уделять моему воспитанию и обязалась это делать. Правда, она попыталась возразить, когда Инспектор записала мои данные для того, чтобы поставить меня на учет в Детской комнате милиции как неблагополучного ребенка (о, как я зарыдала, услышав это). Постановка на учет, пояснила Инспектор в ответ на мамино возражение необходима, чтобы пресечь нарушение уже более строго, если ребенка еще раз поймают на каком-либо уголовном занятии.
Мама не стала настаивать. Думаю, она рассудила так, что сама по себе постановка на учет значит мало: ведь я больше никогда ничего не попрошу у чужих людей, так же, как не просила до этого случая – мама и не спрашивая меня, была абсолютно уверена в этом. Кроме того, спорить было бесполезно. Вряд ли железобетонная Инспектор – крупная, с широкими плечами и низкой талией, с большими длинными руками, с цепким взглядом крысиных глазок, в новом, сшитом «по фигуре» из жесткого драпа пальто и модной маленькой, однако не придающей ей женственности, шляпке, вряд ли эта похожая на грубую бетонную сваю с торчащей арматурой – на мощную корявую сваю, которую пытались облагородить, но не смогли, – женщина вняла бы убеждениям, просьбам или угрозам. Возражения могли лишь усугубить ситуацию.
В общем, мама старалась как можно быстрее, без лишних пререканий, избавиться от Инспектора, и это получилось. Я отправилась в школу. Мама тоже спешила на работу. Бабушкины шесть рублей она у меня забрала, пояснив, что добавит к ним еще денег и купит мне новый портфель. Это не могло сильно обрадовать: «практичные», необходимые вещи мне покупали, но вот ненужную Снегурочку… Впрочем, в тот момент было совсем не до радости, ее не существовало в принципе, и я легко рассталась с неинтересными уже шестью бабушкиными рублями, а про Снегурочку вовсе забыла.
В школу я пришла с заплаканными глазами, сидела тихо-тихо. Никто меня ни о чем не спрашивал. Минут через семь после начала первого урока дверь приоткрылась и невидимая фигура вызвала Людмилу Ивановну через щелку в приоткрывшейся двери класса. Изредка ее так вызывали. Обычно минуты на две. Однако в тот раз неизвестный посетитель шепотом рассказывал что-то Людмиле Ивановне долго, минут пятнадцать. Учительница кивала, иногда вставляла замечания, тоже шепотом. Она стояла в дверях на пороге класса, с кем она шепталась, мы не видели. Однако, окончив разговор и отправляясь к своему учительскому столу, Людмила Ивановна бросила исподтишка быстрый взгляд на меня. Она сразу же отвела глаза. Но я догадалась, что приходила моя мама. Как я понимаю теперь (и кажется, поняла тогда), мама опасалась, что Инспектор сообщит о моем проступке в школу и меня начнут трясти еще и там. И она опять ушла с работы, чтобы заранее все объяснить умной, хорошо знающей свой класс Людмиле Ивановне, и тем уберечь меня от новых мытарств.
На переменке ко мне робко подошла Валя. Робко, потому что выглядела я необычно. «Та тетя была твоя знакомая?» – спросила она. Подняв на нее заплаканные глаза, я ответила почему-то шепотом: «Это была не тетя! это была Инспектор!». И две маленькие девочки посмотрели друг на друга с ужасом.
6. Мой современник Юрий Гагарин.
О полете Юрия Гагарина я узнала в школе, во время урока математики. Я училась тогда в 6-ом классе. Мы занимались в первую смену в тот год. Наша школа, как и другие смоленские школы, работала в две смены, в классах было по сорок человек.
Итак, я училась тогда в средней общеобразовательной школе № 7, одной из старейших в городе. Помню, что в этой школе были высокие потолки, длинные узкие и темноватые коридоры, а уроки труда проходили в полуподвале. Низкие оконца, железные засовы на дверях и холод в помещениях цокольного этажа заставляли вспомнить о подвалах в старинных замках.
Но в тот день у нас не было урока труда, да и весна уже наступила. Совсем недавно началась четвертая четверть, самая короткая, и, как всегда в первые апрельские дни, повеяло приближением лета и летних каникул. Начинался этот школьный день вполне обыкновенно. Шел, кажется, второй (возможно, третий) урок – математика. У нас была хорошая учительница математики, Антонина Ивановна – худая высокая блондинка, старая уже, как нам представлялось, лет тридцати или даже тридцати двух. Я не очень любила математику; к тому же, мне плохо давались, а главное, были неинтересны сложные алгебраические примеры, которые мы тогда проходили. Поэтому, несмотря на высокое педагогическое мастерство Антонины Ивановны и на прекрасное отношение к ней, урок ничего особенно увлекательного мне не предвещал.
Однако этот урок пошел совершенно необычно, не так, как всегда. Это особый был урок. Минут через пятнадцать после его начала дверь в класс чуть приоткрылась, и рука в зеленом рукаве поманила Антонину Ивановну. По рукаву мы узнали Надежду Кузьминичну, нашего классного руководителя и учительницу истории, это была ее зеленая вязаная кофта. «Кузьминичну», так мы ее звали из-за редкого отчества и потому что она была «наша» – классный руководитель, наш класс тоже любил. Она была уже совсем старухой, как мы говорили между собой – лет пятьдесят, наверно. Не знаю, каким она была историком, но она была, безусловно, добра и старалась быть справедливой. «Своему» классу, то есть нам, она уделяла довольно много внимания. Это ее громкий голос командовал во время дежурства или, может, субботника: «Между плинтусом и полом три получше! Там всегда грязь скапливается – тряпкой ее, тряпкой! Хорошая хозяйка должна тереть между плинтусом и полом!» – и вот уже более полувека вспоминаю Надежду Кузьминичну, когда тру (или не тру) тряпкой «между плинтусом и полом»…
Они стояли по сторонам от порога возле чуть приоткрытой двери в класс. Из коридора невидимая нам Надежда Кузьминична взволнованным шепотом что-то сообщала Антонине Ивановне, а та поднимала брови, морщила лоб, хлопала глазами и восклицала (вначале тоже шепотом, а потом, забывшись, и вслух): «Как!? Неужели?! Это точно?! Не может быть! Но это что, по радио сказали?! Это правда?!» Ее всегда бледное лицо покрылось неровным румянцем, светло-русые, прямые, как палки, волосы вдруг растрепались, выбились из всегда гладкого пучка, образовав некрасивые «сосульки» вдоль щек…
Мы вытягивали шеи, но слов Надежды Кузьминичны все равно было не разобрать. Наконец, дверь захлопнулась, Антонина Ивановна вернулась к доске. «Все успокоились, это что за шум! – обратилась она к нам учительским голосом: Возвращаемся к нашему новому материалу!». Она и впрямь попыталась вернуться к объяснению, даже начала писать какие-то цифры и формулы на доске. Но было это сделано без привычной учительской энергии, без необходимого при объяснении нового материала энтузиазма, и класс ее плохо слушал. Да и ее мысли, похоже, витали далеко от класса. «Ребята! – вдруг обратилась она к нам другим, не учительским, голосом: Кажется, произошло очень важное событие: кажется, человек полетел в Космос! Наша страна отправила в Космос человека, и он там сейчас летает…». Она так и сказала – «кажется». Она не могла поверить вполне, еще не поверила. Но если сообщила классу, то, наверно, поверила? В общем, новость была такова, что внушала восторг и мысль о невероятности, невозможности…
Это чувство восторженной невозможности было в тот день едва ли не главным – в первые часы, по крайней мере. Теперь, когда я вспоминаю поведение людей в те первые часы, я думаю, что это соединение радости и тревоги похоже на чувство, какое бывает, когда кто-то близкий рожает, когда должен родиться новый человек. Была радость и чувство большой тревоги за космонавта, ведь он еще находился там, в Космосе! Помню, что после этого урока нас отпустили.
До дома я добежала за пять минут. Это была среда, мамин выходной: в то время библиотека не работала по средам. Я прошла через полутемный коридорчик коммунальной квартиры, в которой мы в ту пору жили, толкнула дверь в нашу комнату… По средам мама почти всегда что-нибудь пекла, вот и теперь на табуретке возле окна стояла с выдернутой из розетки вилкой шнура остывающая чудо-печь, пахло вкусно – манным пирогом. Мама уже разрезала его по горизонтали, промочила сиропом и теперь сбивала «венчиком» в плошке сметанный крем… Быстро-быстро мелькал «венчик», а глаза у мамы были наполнены радостью и тревогой одновременно, и неизвестно чем больше. По этому ее растерянно-восторженному взгляду, я поняла, что она уже все знает. «Да, человек в Космосе! – воскликнула она на мой только начавший обозначаться вопрос: Он уже час там летает! Я все жду, когда же он приземлится! Он уже должен приземлиться, что же так долго не сообщают?».
Года за два до этого у нас в доме появился телевизор. Это был черно-белый «Рекорд», почти все покупали такие. Телепередачи начинались вечером, часов в шесть. О новостях узнавали по радио. Когда я пришла, радио, конечно, было включено очень громко. Но мама включила и телевизор в надежде, что по такому случаю что-нибудь покажут. И действительно, вскоре обычная для этого времени суток «сетка» исчезла, и по телевизору показали фотографию того, кто летал сейчас по орбите, а может, пробивался сквозь толщу земной атмосферы, испытывая неземные нагрузки, – в шлеме, с мальчишеской своей улыбкой он смотрел на нас с экрана. «Гагарин» – объявили его имя… О, как сразу, с первой этой улыбки, с первой фотографии мы его полюбили! Как обрадовались объявлению о благополучном приземлении корабля! И как на всю жизнь остался в памяти этот день – и утро полета с его радостью-тревогой, и последующая многократно транслировавшаяся по телевидению торжественная встреча в Московском аэропорту, когда и глава государства, и весь почетный караул, может быть, впервые был вместе с нами, был такой же, как мы. Мы испытывали одинаковые чувства. А он, Космонавт, сблизивший нас всех – власть и народ, детей и взрослых, и всех людей вообще – так по-человечески остановился на дорожке, чтобы завязать на ботинке шнурок…
Часть третья: Наша комната в центре.
1. В одну реку…
В течение жизни мне пришлось девять раз менять место жительства. Наибольшее количество сентиментальных переживаний связано с комнатой в коммунальной квартире на улице Ленина, где я жила с 1951 по 1962 год.
Время в детстве тянется медленно. Странно, что все это вместилось всего в одиннадцать лет. Мне кажется, я помню свой самый первый приход в эту комнату: мне было около двух лет, меня привели туда, когда переезд был уже совершен, от бабушки, где мы жили ранее. Должно быть, я не хотела уезжать от бабушки, потому что все мне ласково объясняли, что это и есть теперь наш дом, что мы очень хорошо будем в этой комнате жить… В углу стоял огромный резной буфет. Предыдущая хозяйка комнаты говорила маме, что возьмет за него сущие копейки – почти даром отдает, так как вывезти его вряд ли удастся: он ни в какую дверь, кроме нашей, не пролезет. Потолки в той комнате были громадные – четыре двадцать, проем двери соответственно высокий. А буфет был резной, деревянный, тоже высокий и крупный, сделанный на заказ…
Этот буфет всегда стоял в нашей комнате, до самого отъезда в «хрущевку» в 1962-ом году. Его дальнейшая судьба мне неизвестна, так как взять его с собой не было возможности, он в «хрущевке» бы не поместился. Это был настоящий «буфет Собакевича»: мощный, дубовый, с грубыми резными украшениями. В противоположном углу, возле двери, в качестве антагониста буфету, стояла маленькая хлипкая этажерка – чуть ли не из фанеры. «Своих» книг у нас было мало. Помню томики «избранного» Пушкина и Чехова (в детстве я читала на корешках: Аспушкин, Апчехов, пока мне не объяснили взрослые), четырехтомник Лермонтова и моего, собственного Маршака – толстую серую книжку в твердой дерматиновой обложке, подаренную мне на первый юбилей (пять лет). Позже, на десять лет, подарили «Романы» Тургенева. Были всегда и другие книги, но библиотечные.
Жизнь в этой комнате менялась и на протяжении нашего пребывания в ней. Самыми счастливыми (думаю, не только для меня, но для всех в ней проживающих) были первые годы: когда родители были еще молоды и полны надежд, когда к ним часто приходили друзья… Мы жили в центре, и к нам любили заходить по вечерам мамины подруги, папины друзья – пили чай. Да, именно чай. Было шумно, весело. Мужчины, папины друзья, много шутили. Девушки, мамины подруги, смеялись, кокетничали. Иногда начинали танцевать под громоздкую «радиолу». Нас с сестрой тоже подхватывали, меня брали на руки… Еще была жива тетя Маня – она действительно была маминой тетей – скромная деревенская женщина с трудной судьбой, с искривленными от тяжелой работы пальцами, всегда казавшаяся мне, ребенку, старой. А ей ведь так и не исполнилось шестидесяти.
В середине пятидесятых в нашей семье произошли большие перемены: жизнь надломилась, треснула. Папу отправили работать в сельскую местность – как «тридцатитысячника», а тетя Маня умерла. Эти два события произошли с разрывом в три года, быстро: вначале уехал папа, а потом не стало тети Мани.
Наша жизнь не рухнула, но сильно переменилась. Возросли материальные и прочие трудности. Мама держалась мужественно, старались сохранять прежний порядок жизни, но, как я теперь понимаю, силы убывали, нервы тоже утрачивали былую «железность»…
Комната дождалась возвращения папы, а еще через два года мама получила ордер на окраинную двухкомнатную «хрущевку», и мы переехали. Узнав, что на новой квартире по вторникам дают горячую воду, мама заплакала: «Тетя Маня не дожила. Как бы она радовалась горячей воде!»
Позже мне пришлось неоднократно менять место жительства, в большинство из этих мест мне уже не вернуться никогда. Однако нашу «коммуналку на Ленинской» мне довелось посетить еще раз.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.