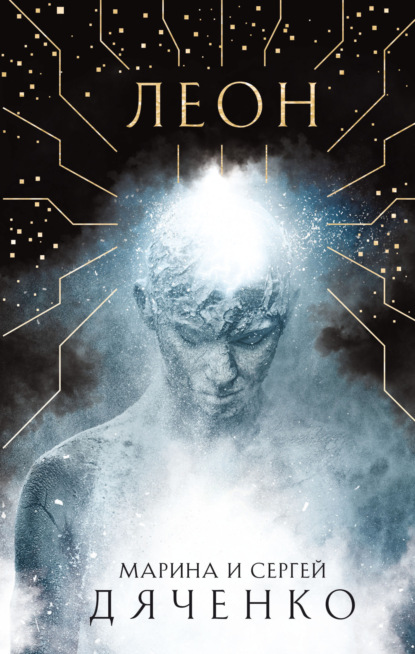Моя правда. Откровения в кабинете психолога

- -
- 100%
- +
Город Кандагач6 в советское время был под московским покровительством. Сюда отправляли всех энтузиастов работать на стройку и на фосфорный завод.
По рассказам мамы город был маленьким, но довольно уютным. Туда курсировал прямой поезд из Москвы с продуктами, мебелью и одеждой, и многие из областного города приезжали в наш за покупками.
К моим трем годам папа окончательно убедил маму сидеть дома и воспитывать детей. Тогда уже два года было моему братику. А так как мы с ним погодки, то маме приходилось часто отпрашиваться с работы. Родственники жили далеко, а нянечки не были распространены в то время. Папа же считал, что детей должна воспитывать мать и ей надо находиться рядом с ними. На тот момент он зарабатывал достаточно, на содержание семьи хватало. Мама рассказывала, что по советским меркам они жили в изобилии.
На том и порешили. Мама ушла с работы в бессрочный декрет. Шел 1991 год.
В тот же год произошел распад СССР. Все рухнуло. Буквально. Стройка остановилась, заводы закрылись. Карточки, талоны, продукты вместо зарплаты.
Потом отключили свет, воду, газ и отопление.
В одно мгновение наш милый город с московским снабжением превратился в руины. Будто после бомбежки. Недостроенные дома, заброшенные квартиры. Город будто вымер.
В нашем, когда-то благополучном, доме опустели почти все квартиры. Многие жильцы поспешно покинули свои квартиры, собрав вещи первой необходимости, и разъехались кто куда.
Дверь в наш подъезд не закрывалась на замок, поэтому туда мог попасть любой. Нас спасало лишь то, что мы жили на четвертом этаже и порой те пьяные люди (да и не только пьяные, думаю), которые заходили погреться зимой, не доходили до нас. Из пятнадцати квартир заселенными остались всего три (в том числе наша), остальные были заброшенными, пустыми.
Что самое удивительное в моих воспоминаниях: я не помню процесс разрушения, а помню лишь случившееся. В моей памяти некогда красивый Кандагач остался уютным лишь по воспоминаниям родителей. Я его запомнила другим.
Наш дом был вторым из трех абсолютно одинаковых. Будто тройняшки, стояли они ровно друг за другом, на одинаковом расстоянии. Неместный мог перепутать их между собой. Одинаковыми были даже подобия палисадников между подъездами.
Сам город находился в степи, там не росли леса, а речка давно пересохла. Зеленых аллей или парков не было.
Думаю, детство мое протекало так же, как у всех ребятишек того времени. Мы с друзьями бегали играть на «стройки» (так мы называли все заброшенные и недостроенные здания) или «трубы», из которых торчала стекловата (если к ней прикоснуться, на теле оставались ожоги).
Мы находили излюбленные, относительно безопасные места (насколько вообще детский ум мог оценить уровень угрозы).
Складывалось ощущение, что нет ничего ненормального в том, что мы играем в прятки в заброшенном открытом кинотеатре, где под ногами лежат какашки (к слову, человеческие), куски разрушенных стен, огромные гвозди, стекла, использованные презервативы, и стоит запах (нет, вонь!) то ли мочи, то ли какашек, то ли сдохших голубей.
Иногда бегали по району друг за другом, играя в казаки-разбойники или салки, прячась за хлипкими, раскиданными бетонными стенами или ограждениями. В колечко играли, сидя на ржавых перилах, которые стояли вместо скамеек возле подъезда, и прятали обувь в полуподвале. Детьми мы находили и осваивали все новые места. Например, как-то облагородили заброшенный подвал в одном из домов и сделали там свой штаб. Запах (точнее, вонь), который там стоял, был убойный, но нам было все равно, мы были рады обретению своего уголка и не видели ничего страшного в том, что рядом бегают крысы и сыро.
Грязными руками (хотя тогда не казалось, что они грязные) мы выковыривали смолу между кладкой кирпичей или панелей и жевали. Зубы были черными, а мы – довольными.
Перед нашим домом была детская площадка (если ее так можно назвать), когда-то, наверное, красивая. От нее остался коричневый турник из железа. Краска с него давно слезла, и после кувырканий на руках оставался запах железа.
Этот треклятый турник я потом возненавидела всей душой. Когда мне было шесть или семь лет, я упала с него ничком головой на землю и не сразу поняла, что поранилась. Только когда начала хлестать кровь то ли из носа, то ли из губы, я зарыдала и побежала домой. У меня до сих пор шрам над губой в виде горизонтальной полоски. Удивительно, что и это воспоминание – отрывочное: помню лишь сам момент падения, искры в глазах и очень много крови.
Чуть дальше за площадкой каждый год летом вырастала высокая трава. С дворовыми детьми я очень любила там лазить, ловить стрекоз, бабочек, божьих коровок. Мы находили муравьев и устраивали бои с жуками-солдатиками (так называли маленьких ползающих жучков, у которых окрас был под военную форму). Жуки были безобидными, оттого я смело брала их в руки и рассматривала.
Но особенно сильно я любила гусениц, особенно когда узнала, что гусенички – это будущие бабочки. Их я находила и аккуратно снимала с листьев деревьев. Любила их трогать и рассматривать: они были разными по окрасу, у некоторых были торчащие волоски. Такие были они мягкие, словно пушинка. Не обходилось без потерь: бывало, сильно сдавливала и могла случайно убить ту или иную гусеницу. Оплакивала потерю и находила следующую.
Но эта высокая трава служила не только игровой площадкой нам, детям, но и скрывала результаты регулярных выпивательных мероприятий местных алкашей: там постоянно лежали стеклянные бутылки, нередко разбитые.
И вот однажды я, как обычно, пошла в траву играть. Вдруг ощутила хруст под ногами. Посмотрела и заметила, что порезалась. Оторвала листик подорожника, облизала и приложила к ноге. Обычно это помогало и было распространенным антисептическим средством от любых порезов и укусов. Но через некоторое время он отклеился и я увидела много крови. Попыталась приклеить новый травяной «пластырь», но кровь не переставала течь. В голове промелькнула мысль: «Мама меня убьет», но все равно пришлось пойти домой. Оказалось, что порез был довольно глубоким и, пока мама его обрабатывала, как это обычно полагалось, прочла мне довольно длинную лекцию о безопасности и угрозах для жизни, а я терпела и слушала, слушала и молчала, ругая себя за неосторожность. У меня осталось два таких шрама из той злополучной травы. Но они были не единственной сложностью в моем здоровье.
В детстве горло было слабым местом, я часто болела гриппом или ангиной с осложнениями – то почки, то легкие. Тогда был дефицит во всем, даже лекарств толком не было. Меня лечили в основном народными средствами: ставили горчичники, смешивали лук, мед и сливочное масло в молоке (фу, какая гадость!) и заставляли выпивать все до дна из огромной кружки (еще и в горячем виде!). Делали йодовую сетку на спине и на груди каждый день по два раза. Как-то мама поставила мне банки и обожгла спину, было очень больно. В общем, в ход шли все средства.
Поликлиника работала с переменным успехом. Помню всего один раз, когда мы туда ходили, чтобы я прошла медицинский осмотр для поступления в колледж. В остальном у нас не было привычки обращаться за помощью к врачам из-за гриппа или простуды. Аптек было мало, а в тех, что были, продавался стрептоцид (единственное средство от боли в горле, кашля, тонзиллита, фарингита, болей в легких и Бог знает чего еще) и мукалтин (самое кислое, что я когда-либо ела в своей жизни, до сих пор скулы сводит оскоминой, если только представить).
Как сейчас помню, от одной мысли, что придется жевать стрептоцид, меня уже тошнило. Я всячески, как могла, сопротивлялась есть эту гадость, и мама со временем стала крошить его в порошок, заставляя жевать по 2—3 таблетки за раз, но не проглатывать. Никогда не забуду этот вкус, застрявшие кусочки в зубах и невозможность запить это гребаное лекарство. Я даже не уверена, помогало ли оно.
Как только наступали холода, я начинала кашлять и чихать. Пропускала садик, позднее – школу, не ходила гулять с друзьями.
Однажды спросила у мамы, почему я так часто болею, и получила ответ, который оставил странное ощущение. Она сказала:
– Все потому, что ты очень громко кричала в младенчестве, вот видимо горло и посадила.
– Что значит «кричала»? Зачем я все время кричала?
– А я откуда знаю. Порой соседи приходили и жаловались, будто мы ребенка убиваем. Ты постоянно ревела, будила братика, он просыпался и тоже начинал плакать с тобой вместе.
У меня сохранились отрывочные воспоминания о моих болезнях, но хорошо помню, что каждый раз сопровождался непременным упреком в глазах мамы, и я чувствовала себя виноватой.
Но перед чем или кем? За что? На это я себе ответить не могла. Болела я всегда тяжело и с глубоким чувством вины за то, что со мной что-то не так, что я плохая дочь и нарочно усложняю всем жизнь.
Ничего не могла поделать с этим ощущением: я подводила маму, ведь ей и так было тяжело, а тут еще и я со своей болезнью. Помню этот жалостливый взгляд с упреком, в котором читалось: «Ну что, опять?..»
Когда мне было лет десять, однажды я пришла из школы и почувствовала сильные боли в горле, даже глотать слюну было невыносимо. Давило и саднило, было трудно говорить.
В тот день включили свет на пару часов и дали воду, но только холодную и ненадолго. А так как воду включали раз в неделю, то все, что за это время накопилось, необходимо было постирать, помыть, почистить. И сделать это было нужно как можно скорее, ведь желательно еще было успеть искупаться или хотя бы помыть самое основное каждому члену семьи, набрать про запас на следующую неделю целую ванну воды, а еще налить ее во все кастрюли, бидоны и ведра. Одежда лежала большими кучами в коридоре, на кухне была сложена посуда для мытья. Все говорило о том, что идет уборка и стирка.
Я подошла к маме:
– Мам, очень болит горло и давит…
– И что?
– Мне так больно, что даже слюну глотать не могу.
Тут мама не выдержала и начала кричать, а в ее глазах сияла злость и осуждение, что я посмела заболеть в самый неподходящий момент:
– И что мне делать? Ты видишь: я стираю, убираюсь, мою посуду и делаю все одновременно! Мне некогда заниматься тобой, хватит притворяться!
Я не поняла ее реакцию и подумала, что со мной что-то не так, но что? Могу ли я сделать так, чтобы не болеть? Мне стало обидно и я разрыдалась от отчаяния и жалости к себе. А дальше я не помню. Провал.
Наше маленькое двухкомнатное жилье в хрущевке было как все советские квартиры. Мне тогда оно казалось просторным. Но в детстве все кажется большим.
У нас было два огромных ковра, натуральных, купленных в честь рождения детей: меня и братика. Один висел в спальне на стене, другой – в зале (так называли большую комнату). Там же стоял диван – коричневый, тяжелый, с подлокотниками, лакированными под темно-коричневое дерево.
Если промотать пленку моей жизни, то можно отметить, что зал был основной действующей сценой для всех событий моей жизни. В нем мы с братиком затевали невероятно длинные серийные игры, там стояло фортепиано, спал папа после очередной командировки, там мы ели, расстелив дастархан7 на полу, отмечали дни рождения, новый год, 8 марта.
Еще в зале помещался лакированный темно-коричневого цвета сервант со стеклянными полками, где располагалась посуда, которой практически никогда не пользовались, а на его дверце справа мы с братиком клеили наклейки.
Этот сервант я помню по еще одной замечательной особенности: он стоял возле маленькой стены у входа в смежную комнату (спальню) и образовавшийся угол использовался для наказания меня или братика. Чаще меня, ведь я была старше. В угол ставили по любой провинности, которую считали родители достаточной для наказания, хотя я не могу вспомнить ни одной серьезной причины.
Пока я стояла в этом углу, все время плакала, вытирая слезы и сопли об обои и скатывая их в комочки. А так как в квартире не было ремонта, то эти обои так и остались ободранными в том месте (вплоть до голой стены), когда мы покидали эту квартиру.
В одном из шкафов серванта была моя коробочка с вязанием и шитьем. Когда мне подарили первую куклу Барби с рыжими волосами, я шила для нее платьица и вязала свитеры, сидя на полу.
Из зала был выход на балкон (открытый и узкий, по бокам размещались полки). Некоторые делали остекление (пристраивали рамы со стеклами на перила, а в середине делали открывающиеся дверцы).
Двойная дверь была очень тугой и ее нужно было с усилием дернуть на себя, чтобы открыть следующую и выйти на балкон.
Наш балкон оставался незастекленным и это создавало изрядную суету. Зимой порог между дверью и входом в зал подмерзал, да так сильно, что образовывалась наледь. Весь балкон засыпало снегом и выйти на него не представлялось возможным: дверь примерзала, а из окна можно было увидеть настоящий сугроб на четвертом этаже.
Но, так как раньше не было раскладных сушилок, то развешивать одежду приходилось на балконе. Расчищали снег, мокрое белье вешали на натянутые проволоки между специальными перекладинами на всю длину балкона (как внутри под потолком, так и снаружи).
Меня всегда смешили замерзшие на морозе папины штаны, такие огромные, в виде буквы М, все в сосульках и даже присыпанные снегом. Мне нравился их свежий морозный, смешанный с ароматом порошка, запах.
Как-то зимой на довольно долгий срок отключили электричество, отопление и газ. Мы спали в теплой одежде, а поверх одеяла клали покрывала и всю верхнюю одежду, какая была. В тот период мама сильно заболела и практически не вставала, папа был дома. Было очень холодно.
Мы зажгли дома свечу, а папа принес паяльник из КАМАЗа. Вышел на балкон и, включив его, разогрел воду, заварил горячий чай и даже пожарил лепешки, смешав муку с водой, чтобы мы могли хоть что-нибудь поесть.
Летом и осенью балкон выполнял также функцию склада. Папа ездил по сезонным рейсам, из которых привозил арбузы, дыни, картошку. Иногда он брал продуктами часть своего заработка, тогда весь пол был усыпан овощами и фруктами. Картофель иногда прорастал и получался почти огород.
В такие периоды арбузы и дыни мы ели на завтрак, обед и ужин, с хлебом. Вкуснота. С тех пор я не любитель есть их, видимо пресытилась в детстве.
Иногда я устраивала разные игры на балконе, читала там книги или делала уроки. Мне нравился свежий воздух и деревья, до которых можно было почти дотянуться.
Спальня была чуть меньше зала, в ней помещался лакированный спальный гарнитур темно-коричневого цвета, состоявший из двух кроватей, огромного шкафа во всю стену и прикроватных тумбочек.
Почему вся мебель была темно-коричневая и лакированная? Надо отметить, что этот гарнитур был гордостью мамы: его купили в Актюбинске, в областном городе или в Орске (уже не помню точно). Однако отчетливо помню то, с каким трепетом она к нему относилась.
На двух кроватях, которые соединялись в одну большую, мы и спали всей семьей (мама слева от меня, я и брат посередине, справа – папа) примерно до моих 10 лет. Потом кровати расставили отдельно и отдали нам с братом, а родители стали спать на диване в зале.
Когда кровать еще была общей, очень я любила на ней прыгать, особенно перед сном. Как-то мама вечером ушла в гости к соседке и, пока ее не было, я, воспользовавшись внезапной свободой, начала баловаться: вставала у подножия кровати, падала на спину и плюхалась в подушки и одеяла. Мне было весело, я хохотала, снова вставала и падала назад. Не помню, сколько раз я так сделала, но запомнила ощущение свободного падения и прилив радости и счастья. Вдруг при приземлении почувствовала в области затылка что-то жесткое и в одно мгновение меня накрыло сильной болью. Но я же была взрослой и сильной девочкой, поэтому начала тереть место на голове и ощутила липкую, горячую влагу, посмотрела на руку и была шокирована.
Нет, я не заревела, а удивилась, потом испугалась, потому что на грохот прибежал мой брат. Увидев кровь, он начал кричать, схватил меня за руку, спустил с кровати, помог выйти в зал, уложил меня лицом вниз, положил на голову полотенце и сказал крепко прижимать, а сам побежал к соседке за мамой.
Когда пришла мама и увидела лужу крови подо мной (мне было больно и я не сильно прижимала полотенце, а кровь все текла и текла, как горный ручей, и полотенце все было в крови). Но я не плакала. А мама снова побежала вниз за соседкой, потом они вдвоем стояли и обсуждали, как же быть, что делать. Я помню растерянность мамы, ее панику и страх, а еще злость.
Она начала спрашивать, как так вышло, и, параллельно с оказанием первой помощи, ругала меня:
– Зачем ты так прыгала?! Ты что, ненормальная?! Смотри, что ты наделала!
Мне стало страшно. А дальше – снова провал.
Еще в спальне стоял стол, тоже темно-коричневый и лакированный. Он был огромным, но складывался с обеих сторон и получался как будто комод. Стол стоял слева в углу при входе в спальню, а кровать – вдоль окна, выходящего на задний двор.
Этот стол выполнял разные функции: иногда он служил мне укрытием ото всех бед и от злости моих родителей, порой мы с братиком играли под ним (придумывали какую-нибудь игру и не выходили оттуда целыми днями). Внутри стола были полки, на них хранились мамины лекции из института, папины журналы «За рулем» и семейные фотоальбомы (те самые, что были в кожаных переплетах, с черно-белыми фотографиями и очень серьезными лицами людей на них, а каждую страницу накрывала полупрозрачная бумага, тонкая и легкая).
Я любила листать папины журналы. Там я впервые увидела машину BMW и влюбилась. Кажется, это самая крепкая любовь в моей жизни, мне до сих пор нравятся машины этой марки.
Этот стол послужил защитой, когда однажды папа меня ударил по лицу. Я училась в первом или втором классе. По словам мамы, в детском садике была подготовительная группа, а в среднюю школу я пошла только лишь в первый класс, но тогда у меня не стыкуется картинка, ведь после первого я попала в 3Б… В общем, какая-то очередная путаница.
Воспоминания за годы первого и второго класса отсутствуют, будто я стерла их напрочь, как если бы лежала в коме и видела несколько снов. Одно из таких воспоминаний вызывает у меня ощущение невозможности. Как папа мог ударить меня? Но я помню чувства.
В тот год я скатилась на тройки, так как это был новый класс, новая школа, другие одноклассники, к тому же я была мелкой, а, сидя на последней парте в классе из тридцати пяти детей, не видела доску и толком не слышала, о чем вещал преподаватель.
Поздно вечером я сидела за столом и исправляла свой почерк, а моя тетрадь была испещрена зачеркиваниями, пометками и тройками. Папа был дома, он подошел ко мне и заглянул в тетрадь, а дальше начался скандал. Не помню сказанных слов, не помню, за что конкретно я получала этот «разгром», но помню точно его огромную ладонь, несущуюся к моей левой щеке, и удар. А потом – яркую вспышку света и сильную боль.
Схватившись за щеку рукой, я сбежала под стол и забилась в угол, а передо мной возвышалась огромная фигура отца. Он был таким грозным, как будто злой великан. На шум прибежала мама и начала успокаивать папу, а я продолжала тихо плакать в своем укрытии. Запомнила одно: я плохая дочь и мне нужно учиться лучше.
Однажды к нам приехали гости – какие-то папины то ли друзья, то ли коллеги. Они все разместились в зале, а нас, детей, согнали в спальню и закрыли дверь. Я услышала взрослый разговор о том, что гости едут в Орск, и на меня вдруг нахлынуло безумное желание увидеть ажеку8. Я нашла фотоальбом, где была ее фотография, села под стол (играть уже не хотелось, хотя дети развернули целую битву) и расплакалась, глядя на фото ажеки. Подошел мой братик и спросил, почему я плачу. Продолжая реветь, я ответила:
– Скучаю по аже-е-е-ке-е-е!
Почему-то этот ответ не удовлетворил брата. Он посмотрел в замешательстве и осуждающе, словно говоря: «Нельзя плакать, мама будет ругаться», а я безмолвно отвечала: «Я скучаю по ажеке и хочу пореветь». Он тут же побежал в зал и все рассказал маме.
Помню приближающуюся и нависающую надо мной фигуру мамы, ее сердитый взгляд упирался в мое лицо. Она спросила сквозь сжатые зубы:
– И чё ты ревешь, а?
Я еще больше захотела увидеть ажеку и спрятаться в ее подмышке или побежать в зал и обнять папу, но знала, что рассержу его тем, что потревожу, поэтому осталась стоять на месте и заплакала еще сильнее. Мне стало страшно. Я ощущала пустоту внутри и непонимание, почему же мама сердится на меня, а самое главное – за что.
Ответила честно:
– Я скучаю по ажеке…
– И чё мне делать? Вон, эти чужие люди едут сейчас в Орск, отправляйся с ними в таком случае, раз ты так соскучилась по ажеке. Ревет она. Чего реветь-то? Что я теперь сделаю, если ажека живет далеко? – все это было выплюнуто мне в лицо едким залпом, будто сам факт скучания по родной ажеке – это зло, и что я мешаю родителям быть сейчас с гостями, создаю для них неудобства своими чувствами. – Прекрати реветь! – сказала она и ушла.
Я любила спальню. Окно выходило на солнечную сторону и (особенно зимой) лучи солнца падали на палас и на нем было очень приятно, тепло и уютно лежать. Еще было тихо, а в окно я видела деревья, и все казалось не таким страшным.
Осталось одно очень зыбкое, как песок, воспоминание. Я лежала на паласе под лучами солнца и читала книгу. Не помню названия, но это была приключенческая история об одной девочке, которая попадает в страну букв, где знакомится с грамматикой, орфографией, запятыми, тире и учится различать их, попадая в разные ситуации. Меня увлекла эта история настолько, что я не могла оторваться от чтения, когда вдруг услышала мамин осуждающий голос:
– Ты чё тут бездельничаешь? Я, что ли, сама должна всю уборку дома делать? Иди и помоги мне. Нет бы самой прийти ко мне на помощь! Почему я должна тебя заставлять делать все?
У нас был диапроектор (такое устройство, на котором на слайдах мы смотрели немые сказки: там были картинки, а снизу – субтитры с комментариями и диалогами). Мы закрывали дверь спальни, затемняли окна и включали диафильм. Я просто обожала этот вид досуга, особенно любила читать и переключать кадры. До сих пор помню сказки: «Городок в табакерке», «Бармалей», «Ананси и волшебный фонтан».
Еще помню такой большой советский проигрыватель пластинок, на нем мы тоже слушали сказки. Особенно я любила «Приключения Незнайки». Потом в библиотеке нашла толстенную книгу с иллюстрациями и прочла ее.
Слева от прихожей размещалась кухня. Она была крошечной, чуть больше, чем ванная комната. Кухонного гарнитура у нас никогда не было. Помню, как мама часто сетовала по этому поводу. Возле плиты стоял маленький столик и на нем размещалось все: еда, которую готовили, и посуда, которую нужно было помыть. Обеденный столик метр на метр стоял возле холодильника. Одновременно в помещении могло находиться не более трех человек. Часто братик ел стоя, а родители говорили: «Стоя больше влезет» и мы все смеялись.
Янна смотрит на меня так, будто вместе со мной прожила все мое детство в этой маленькой квартире.
– Ты чувствовала себя как в клетке: будто вся квартира и обстановка того времени была для тебя единственным миром, ограниченным и закрытым от посторонних глаз. Тебе было настолько тесно там, что ты запомнила каждый уголок так детально. Столько трагичных и печальных событий происходило в стенах дома твоей семьи.