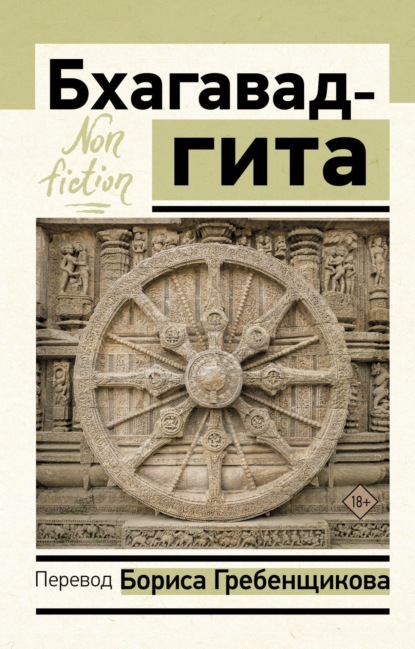Дикие сердца Алатау. Млекопитающие Заилийского хребта
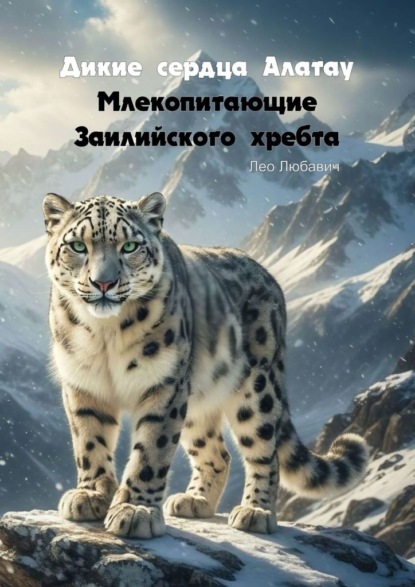
- -
- 100%
- +
Она – оседлый философ, не знающий нужды в дальних странствиях. Ее вселенная – это несколько сотен метров мшистых корней и каменистых россыпей. Здесь каждая трещина в скале, каждый туннель под палой хвоей – знакомая улица ее родного города. Она не бежит от суровости этого мира, она и есть его неотъемлемая часть. Ее хвост, составляющий две трети длины тела, – не просто придаток, а верный руль в ее стремительных бросках сквозь лабиринты подлеска.

Ее жизнь – это вечный, неутомимый поиск, тихий труд по сбору дани с этого скупого, на первый взгляд, мира. Ее пища – сокрытая жизнь: насекомые и их личинки, что прячутся под ковром из хвои и мха. Она – незаметный санитар и страж равновесия, крохотный хищник, чей аппетит поддерживает хрупкий баланс в этой высокогорной экосистеме.
За короткое горное лето она должна успеть все. Дважды за сезон ее нора наполняется писком новой жизни – от двух до восьми крохотных наследников этого вертикального королевства. Она передает им не богатства и не земли, а нечто большее: умение выживать там, где другие сдаются, умение находить тепло в холоде и пищу среди камней.
Когда вы стоите среди тяньшанских елей, вдыхая смолистый воздух, и вам кажется, что вокруг лишь ветер да величие скал, знайте: под вашими ногами, в тени гигантов, протекает иная, сокровенная жизнь. Жизнь, измеряемая не в годах, а в ударах крохотного сердца. Это жизнь тяньшанской бурозубки – тихого, неприметного, но несгибаемого духа Небесных Гор.
Белозубки
Есть миры, сокрытые от нашего взгляда. Империи, раскинувшиеся не на континентах, а в густой траве у наших ног. Цивилизации, чья история пишется не чернилами, а следами крошечных лапок на влажной земле. И правит в этой невидимой империи род, чье имя – Белозубки. Не обманывайтесь их скромным обликом. В великой книге млекопитающих им отведена самая толстая глава – почти двести видов, легион живых огоньков, разбросанных по всему свету. Ни один другой род не может похвастаться таким многообразием.
Их жизнь – это вечный бег. Бег наперегонки со смертью от голода. Внутри каждого этого крошечного тельца, весом не более девяти граммов, пылает метаболическая печь такой ярости, что она сжигает все без остатка. Сердце, крошечный барабан, отбивает бешеный ритм, требуя топлива. Всегда. Безостановочно. За один день белозубка поглощает больше пищи, чем весит сама, и даже этого порой недостаточно. Остановиться – значит остыть. Остыть – значит умереть. Сутки без еды для нее – не просто дискомфорт, а смертный приговор.
Поэтому ее мир – это калейдоскоп запахов, шорохов и вибраций. Она не идет, а струится сквозь подлесок, живой комок нервов, обернутый в серую с бурым оттенком шерстку. Каждый треск сухой ветки, каждый шелест листа – это либо обещание добычи, либо тень хищника. Она – воплощение неутолимого голода, крошечная фурия, чей укус для насекомого или червя – последняя точка в его бытии. А у некоторых ее сородичей, гигантских тропических кузенов, есть и тайное оружие – капля яда в слюне, парализующая жертву, которая намного крупнее самого охотника.

Здесь, у подножия седых вершин Заилийского Алатау, разворачиваются свои драмы. Воздух пахнет полынью и талым снегом. В зарослях шиповника и среди пестрых трав предгорий безраздельно властвует малая белозубка. Она – космополит этого мира. Ее владения простираются от подвалов человеческих домов, где она устраивает дерзкие набеги на запасы, до альпийских лугов на высоте в две с половиной тысячи метров. Она вездесуща, как ветер.
Весной ее великий голод удваивается. Теперь она кормит не только себя. За ней, вцепившись зубками в хвост друг друга, следует живая цепочка – ее потомство. Этот удивительный «караван» из пяти, а то и десяти крошечных копий матери движется как единое целое. Это не игра, а суровая необходимость. Потеряться в огромном, полном опасностей мире – значит погибнуть. Мать ведет их, дрожащая от напряжения, сквозь лабиринты трав, обучая главному закону их рода: двигайся, охоться, ешь. И никогда не останавливайся.
Но в этих же горах живет и другая, почти мифическая ее родственница. Там, где воздух разрежен и холоден, у самых берегов Большого Алматинского озера, чей цвет спорит с бирюзой небес, обитает белохвостая белозубка. Она – призрак высокогорья. Ее шубка отливает серебром, словно инеем, а длинный хвост добавляет ей изящества, не свойственного суетливой родне из долин. Ее видят редко. Она – отшельница, аристократка рода, выбравшая себе в удел величие и холод первозданной природы. Она – тайна, которую горы доверяют лишь самым терпеливым наблюдателям.

Так и живут они, два народа одного великого рода, на склонах одного хребта. Одна – суетливая, прозаичная хозяйка предгорий, чья жизнь – бесконечная погоня за выживанием. Другая – редкая, серебристая мечта, тень у ледяной воды.
И когда вы в следующий раз услышите шорох в траве, замрите. Возможно, прямо у ваших ног проносится крошечный титан, ведя за собой свой караван в вечной борьбе с огнем, что горит внутри. Невидимая империя живет своей напряженной, яростной жизнью, и мы в ней – лишь случайные, невнимательные гиганты.
Обыкновенная кутора
Есть в горах Заилийского Алатау души, неведомые большинству. Они не кричат с вершин, не трубят в ущельях. Их жизнь – это тихий шепот ледяной воды, бегущей по камням в долинах Талгара, Алматинки и Каскелена. Здесь, на высоте двух тысяч метров, где воздух чист и остер, а еловые леса хранят вечную тень, живет властелин двух стихий – обыкновенная кутора.
Ее имя, созвучное со словами «кутерьма» и «круговерть», выдает ее суть. Она – дитя водного хаоса. Ее царство – это топкие, заросшие густой травой берега, где корни старых тянь-шаньских елей сплетаются с валежником, создавая идеальные лабиринты для убежищ. На суше она – лишь бархатный комок жизни длиной не больше ладони, с весом в двадцать граммов и сердцем размером с кедровый орех. Но стоит ей коснуться воды, и происходит преображение.
Она не входит в воду – она в нее вливается, сливается с ней без единого всплеска. Ее тело, покрытое плотным, несмачиваемым мехом, превращается в серебристую торпеду. Она – совершенный пловец и ныряльщик, живое воплощение стремительности. Ее стихия – холодный, быстрый поток, который для других – преграда, а для нее – охотничьи угодья.
И не обманитесь ее размером. Этот крошечный зверь – беспощадный и хладнокровный хищник, тиран своего маленького мира. Ее меню не ограничивается водными жуками и личинками. С дерзостью, немыслимой для ее габаритов, она бросается на мальков форели, на зазевавшихся мышевидных грызунов и даже на беззащитных птенцов водоплавающих птиц. Она – доказательство того, что ярость и воля к жизни не измеряются в килограммах.

Но главный ее секрет, ее древняя магия, сокрыта не в когтях и не в зубах, а в капле слюны. Кутора – одно из немногих ядовитых млекопитающих планеты. Ее подчелюстная железа вырабатывает нейротоксин, тихий и быстрый, как горная река. Один укус – и жертва не умирает. Нет, кутора дарует ей нечто более страшное – ледяное оцепенение. Тело становится чужим, неподвижным, но жизнь в нем еще теплится.
Благодаря этому темному дару кутора стала гениальным стратегом. Она не просто охотится, чтобы утолить голод здесь и сейчас. Она создает запасы. В своих потайных норах, под корягами и камнями, она устраивает «живые кладовые». Десятки обездвиженных насекомых, червей и мелких рыбешек лежат там, сохраняя свежесть в течение трех, а то и пяти дней. Это ее страховка от голодных времен, ее мрачный погреб, где смерть ждет своего часа.
Ее собственная жизнь – короткая, но яростная вспышка. Всего два оборота Земли вокруг Солнца отмерено ей в дикой природе. За этот срок она должна успеть все: выжить, оставить потомство и передать ему секреты выживания. С апреля по сентябрь, в короткое горное лето, она приносит два или три выводка, в каждом из которых до дюжины новых бархатных ассасинов.
Когда в следующий раз вы окажетесь у горного ручья, чья вода обжигает холодом, замрите на мгновение. Прислушайтесь. Возможно, прямо сейчас из-под замшелого камня выскользнет темная тень, беззвучно войдет в поток и отправится на охоту. Это кутора, безмолвный хранитель ледяных тайн, доказывающий, что самое грозное оружие в мире – это неутолимая жажда жизни, заключенная в крошечном, бархатном теле.
Рукокрылые
Большой подковонос
Есть в горах Заилийского Алатау места, где время течет иначе. Не по солнцу, а по луне. Не по смене времен года, а по глубокому, мерному дыханию камня. Это мир заброшенных штолен и естественных пещер, чьи входы, словно темные зрачки, вглядываются в долины рек с высоты в тысячу двести метров. Здесь, в этих каменных утробах, обитает патриарх ночи, крылатый старец, чье имя – большой подковонос.
Он – самый крупный из своего рода, но величие его не в размере. Размах его крыльев – сорок сантиметров бархата, буровато-серого, с рыжим отблеском, словно выцветший гобелен. Но истинное его сокровище, его корона и его голос – это сложный кожистый цветок на носу, причудливая подкова, давшая имя всему его роду. Это не украшение. Это – врата в иной мир, мир, который можно не увидеть, но услышать.
Когда последние лучи солнца гаснут на пиках, и ущелья наполняются густой, фиолетовой тьмой, он пробуждается. Неспешно, без суеты, он расправляет крылья. Его полет не похож на стремительный бросок сокола или нервное порхание мотылька. Он летит медленно, прямолинейно, словно темный корабль, плывущий по безвоздушному океану ночи. Он патрулирует свои владения низко над землей, и мир для него – это не образы, а симфония отраженных звуков.
Через свой носовой нарост он испускает в темноту неслышимые для нас ультразвуковые крики. Они летят вперед, ударяются о ствол дерева, о лист папоротника, о хитиновые крылья ночной бабочки-совки, и возвращаются обратно. И в этом потоке эха подковонос видит все: каждую трещинку на камне, каждую каплю росы, каждое движение своей добычи. Он видит ушами, рисуя в своем сознании точную, вибрирующую карту мира. Для него зазевавшийся жук или ручейник – это не просто пятно, а четкий, ясный звуковой сигнал, на который он нацеливается с безупречной точностью.

Летом его жизнь разделена. Самцы и молодые самки предпочитают аскетичное одиночество или держатся малыми группами, как философы-отшельники. Но в самых теплых и защищенных залах пещер царит иная атмосфера. Там сотни матерей образуют единое, живое, дышащее сердце – родильную колонию. Воздух здесь плотный и теплый от дыхания множества тел, наполненный тихим писком и шорохом. Здесь, в июне, на свет появляется единственный детеныш, слепой и беспомощный. Но природа не дает ему времени на негу. Через неделю его глаза откроются, а уже через месяц он встанет на крыло, чтобы учиться древнему искусству полета и охоты по звуку.
Его жизнь – это марафон, а не спринт. В отличие от многих малых созданий, подковонос не спешит взрослеть. Самка может прожить пять лет, прежде чем решится принести первое потомство. Сам акт продолжения рода – это тоже таинство, растянутое во времени. Спаривание происходит осенью, в преддверии великого сна, но оплодотворение откладывается до весны. Семя ждет своего часа внутри самки всю долгую зиму, словно семя растения, ожидающее тепла.
Зима – самое суровое испытание. Закутавшись в собственные крылья, как в плащ, подковонос впадает в глубокую спячку. Его сердцебиение замедляется, дыхание становится почти незаметным. Он превращается в живой сталактит, висящий во тьме. Многие из молодых не переживают эту первую, самую длинную ночь в их жизни. Но те, кто выстоял, получают в награду дар долголетия. Большой подковонос может прожить более двадцати лет.
Двадцать раз он увидит, как снег покрывает его горы, и двадцать раз он пробудится под робкие звуки весенней капели. Он помнит зимы, когда тепло возвращалось раньше, и он вылетал на охоту среди голых деревьев. Он помнит целые поколения других, более короткоживущих обитателей леса. Он – безмолвный свидетель, хранитель тайн пещеры, чей мир соткан из эха и тьмы. Он – живая память горы, закутанная в крылья.
Ночницы
Когда солнце отдает власть сумеркам, а мир замирает, готовясь ко сну, пробуждается иное царство. Его подданные не ходят по земле, а чертят в воздухе невидимые траектории. Их голоса – тончайший ультразвук, недоступный нашему слуху. Это царство Ночниц, и они – его бесчисленное воинство. Имя им – легион, ведь ни один другой род рукокрылых не может похвастаться таким ошеломляющим многообразием: более ста десяти ликов, каждый из которых – уникальная вариация на тему ночной жизни.
Они – существа, сотканные из парадоксов. Легкие, как сухой лист, весом от нескольких граммов до сорока пяти, но при этом обладающие силой, позволяющей рассекать воздух с поразительной скоростью. Их облик – изящная миниатюра: вытянутая мордочка вечного искателя, уши-локаторы разной формы, от коротких до невероятно длинных, и тонкий ланцетовидный козелок, улавливающий эхо мира. Они одеты в бархат – от цвета угольной пыли до оттенков старого золота и рыжей осенней листвы. Их мир – это не картина, а звуковая скульптура, которую они лепят и ощущают ежесекундно, рисуя пространство эхом.
И здесь, в суровом и величественном сердце Заилийского Алатау, под одним и тем же звездным небом живут две судьбы, две философии жизни этого древнего рода.

Первая – это душа колонии, остроухая ночница. Она – дитя предгорий, ее жизнь неразрывно связана с влагой и близостью пресных водоемов. Она выбирает места, где рельеф сглажен, а цивилизация не так уж далека. Ее дом – это не уютное дупло, а гулкое, полное шорохов и запахов пространство: заброшенная штольня, глубокая пещера или пыльный чердак старого дома. Она – существо социальное до мозга костей. Весной и летом эти чердаки и пещеры превращаются в бурлящие мегаполисы. Сотни, тысячи матерей собираются вместе, чтобы дать жизнь новому поколению. Представьте себе колонию близ Узунагаша – шесть тысяч душ, живой, дышащий, шепчущий организм, единое теплое тело, сокрытое под крышей. Это их общая колыбель, их крепость. Но как только ночь накрывает предгорья, этот единый улей распадается на тысячи одиноких искр. Каждая ночница становится безмолвным охотником-одиночкой, тенью, скользящей над водой в поисках добычи. Их жизнь – это пульсирующий ритм: от тесного единства колонии к абсолютному уединению ночной охоты.
Совсем иную стезю выбрала ее сестра – усатая ночница. Если остроухая – это пульс коллективной жизни, то ее усатая родственница – воплощение стоического одиночества и невероятной стойкости. Она – странник и философ. Ей не нужны ни огромные пещеры, ни многотысячные колонии. Ее мир там, где она сама. Она – экологический пластик, способный принять любую форму, которую диктует ей ландшафт. Равнина или высокогорье, глушь или огни большого города – она везде найдет себе пристанище. Ее дом – узкая трещина в скале, вымоина в глинистом обрыве, случайная щель в стене. Она не ищет общества. Ее численность везде мала, она – редкая жемчужина в ночной короне. Даже в самый ответственный период, когда приходит время растить потомство, ее материнские колонии – это тихий семейный клан из пяти-десяти особей, приютившийся в укромном уголке. Она – неуловимый призрак, доказательство того, что можно быть частью огромного рода, но идти по жизни своим, совершенно особым путем.

Так они и делят одно небо. Одна – гражданка шумных подземных городов, другая – отшельница скалистых пустошей. Одна находит силу в единстве тысяч, другая – в собственной самодостаточности.
И когда в густеющих сумерках вы увидите мелькнувшую над головой тень, знайте: это не просто зверек. Это наследник древнего рода, выбравший одну из двух дорог. Это живой, бархатный иероглиф, начертанный на пергаменте ночного неба, и у каждого такого иероглифа – своя, неповторимая история.
Серый ушан
Горы умеют хранить тайны. В каждой складке ущелья, в каждом дупле вековой ели, в каждой трещине скалы Заилийского Алатау сокрыта жизнь, о которой мы, люди долин, почти ничего не знаем. Одна из таких тайн обрела имя лишь в середине двадцатого века, хотя жила рядом с нами всегда. Это история серого ушана – призрака лесов, чье существование – тихий, едва различимый шепот.
Он не из тех, кто сбивается в грозовые тучи, затмевая луну. Его удел – одиночество. В отличие от своих сородичей, он не ищет многолюдных колоний. Его жизнь – это череда уединенных убежищ: расселина в скале у озера Иссык, заброшенный чердак на окраине Алматы, дупло старого дерева в долине Малой Алматинки. Он – философ и отшельник, экологический пластик, способный обжить и дикий лес, и соседство с человеком, но всегда – на своих условиях, сохраняя дистанцию. Лишь суровой зимой, когда ледяное дыхание гор заставляет искать спасения, он может примкнуть к небольшому, молчаливому братству из двух-трех десятков особей в глубине пещеры, но это не общество, а лишь вынужденное перемирие с холодом.
Венцом его облика, его визитной карточкой, служат уши. Невероятные, почти равные по длине его телу, тонкие, как осенний лист, испещренные сетью жилок. Это не просто органы слуха – это живые локаторы, пергаментные паруса, улавливающие малейший трепет воздуха. Днем, когда он отдыхает, эти огромные уши комично торчат, но в момент глубокого сна или зимней спячки происходит чудо: ушан аккуратно, словно складывая драгоценный веер, сворачивает их и прячет под кожистые крылья. В этот миг он становится похож на загадочный серый сверток, хрупкий кокон, хранящий в себе тайну жизни.
Он охотник, но его охота – это беззвучный балет. В отличие от многих летучих мышей, он не боится сумерек и даже дневного света. Его серая, дымчатая шубка делает его почти невидимым на фоне коры или скал. Он вылетает, когда воздух еще теплый, и парит над кронами деревьев, выискивая свою главную добычу – ночных мотыльков. Его эхолокационный крик – не пронзительный визг, а едва слышимый шепот на границе нашего восприятия. Он рисует мир звуковыми мазками низкой интенсивности, создавая призрачный контур леса, в котором порхающая моль видна ему так же ясно, как нам – звезда в ночном небе.
Но самая глубокая его тайна – это тайна времени. Жизнь ушана течет по иным законам. Спаривание происходит осенью, в пору увядания, но это не начало новой жизни, а лишь обещание. Семя любви замирает в теле самки, пережидая вместе с ней долгую зиму. И только весной, когда первые ручьи пробьют ледяной панцирь, а в воздухе запахнет молодой листвой, происходит оплодотворение. Одно дитя в год, рожденное в начале лета, – таков его вклад в вечность. Он не спешит жить и не спешит продолжать свой род, отмеряя себе долгие пятнадцать лет на этой земле.

Десятилетиями зоологи считали его лишь разновидностью бурого собрата. Понадобились пристальный взгляд и новые технологии, чтобы понять: за знакомой внешностью скрывается другой вид, с более крупной мордой и иным оттенком меха. Он так долго прятался на виду у всех, в тени своего более известного родственника.
Так и живет он, серый ушан Заилийского Алатау. Тихий отшельник, мастер маскировки, повелитель звукового шепота. Он – напоминание о том, что самые удивительные истории часто рассказываются негромко, и чтобы их услышать, нужно лишь на мгновение замереть и прислушаться к тишине.
Азиатская широкоушка
В каждой горной системе есть свои легенды. Истории о снежных людях, о духах вершин, о существах, что показываются человеку лишь раз в столетие. Но самая поразительная легенда Заилийского Алатау – не вымысел. Она записана сухим научным языком, измерена в миллиметрах и подтверждена двумя уникальными находками. Имя этой легенды – азиатская широкоушка.
Это не просто животное. Это призрак. Вопросительный знак, облеченный в тонкую кожу и светлый мех. В великой книге природы ее страница почти пуста. Мы знаем о ней меньше, чем о темной стороне Луны. За всю историю зоологии, за все время, что человек исследует эти горы, ему было позволено встретиться с ней лишь дважды. Всего два раза. Представьте себе это.
Первая встреча произошла на высоте тысячи метров, в урочище Бартогай. Не в лесу, не в ущелье, а в рукотворном склепе – заброшенной штольне. Там, в холодной, звенящей тишине, где человек когда-то искал руду, природа спрятала свое сокровище. Возможно, летучая мышь сочла эту искусственную пещеру идеальным убежищем, местом, где ее никто не потревожит. И она была права – до того самого дня, когда луч фонаря выхватил из мрака силуэт, не похожий ни на один известный науке.
Вторая встреча – словно эхо первой. На высоте 1200 метров, близ поселка Курам, в глиняном сердце горы. Карстовая пещера «Жилая», названная так, возможно, в насмешку, стала вторым и последним известным адресом этого существа. Два места на карте, две точки, соединенные пунктиром тайны. Обе – на самой восточной оконечности хребта, словно призрак не желает покидать свои родовые владения.
Что же мы знаем об этом фантоме? Лишь то, что отличает его от европейского собрата. Он крупнее – тень его больше, размах крыльев шире. Его мех светлее, будто выткан из лунного света и пыли древних камней. И главная, почти эстетская деталь: внешний край его огромных ушей-локаторов чист и гладок. У него отсутствует та маленькая кожная лопасть, что есть у его родственников. Словно природа, создавая этот шедевр уединения, решила отбросить все лишнее, добившись совершенной, лаконичной формы.
Это все. Все, что мы можем сказать наверняка, подкреплено лишь холодными цифрами штангенциркуля. Кондилобазальная длина черепа – от 14,2 до 14,9 миллиметра. Длина предплечья – от 41,5 до 45 миллиметров. Эти измерения – священные скрижали, единственное материальное доказательство того, что азиатская широкоушка реальна.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.