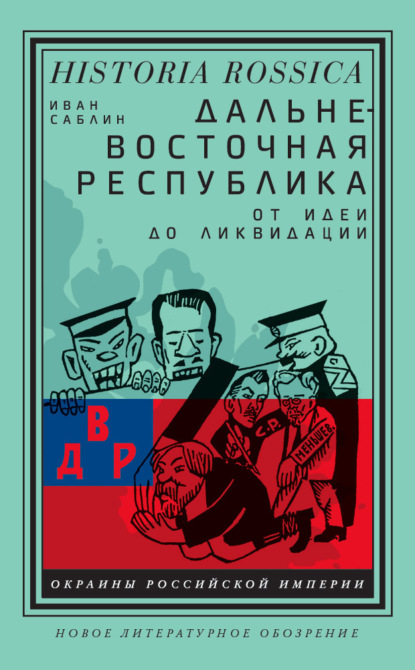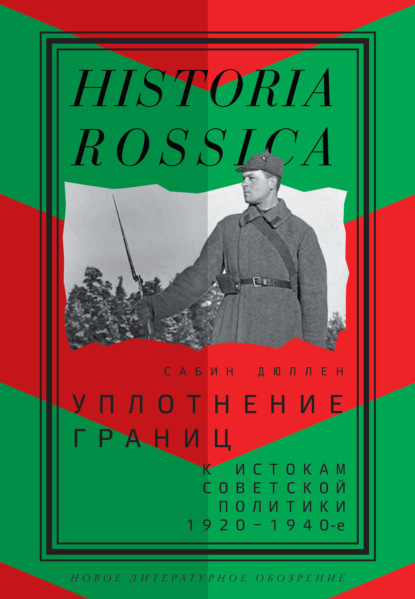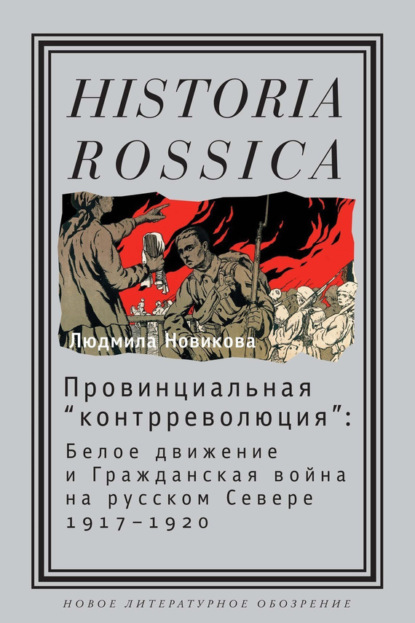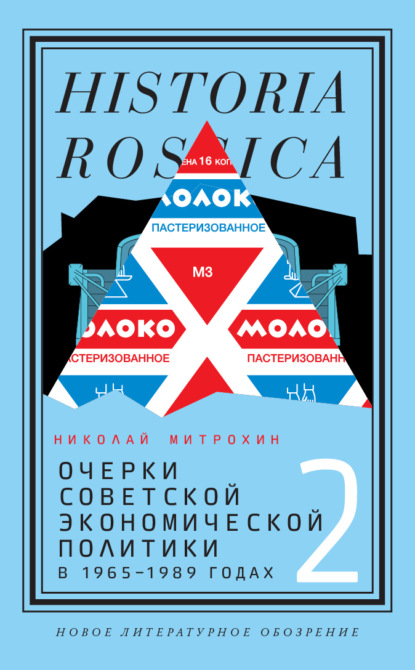Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи
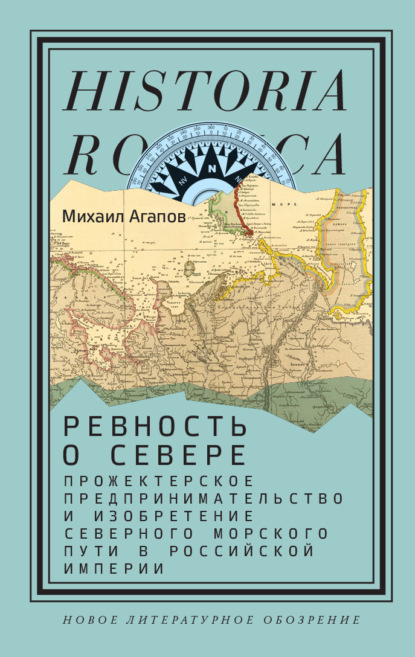
- -
- 100%
- +
Третий Север России возник в начале XVIII века как результат масштабных преобразований Петра Великого. Вопреки расхожим представлениям, первый российский император не был нордофилом (см. главу 5, параграф 5), вектор его геополитических устремлений указывал на юг. В этом отношении Петр был продолжателем экспансионистского южного курса своих предшественников на московском троне, мечтавших перенести Великий шелковый путь с Ближнего Востока на территорию России208. Отсюда проистекала и борьба Петра за выход России к Азовскому и Черному морям, ознаменовавшая начало его правления. Как отмечает крупнейший специалист по Петровской эпохе Е. А. Анисимов, по итогам Второго Азовского похода 1696 года завоеванному «Азову и [заложенному тогда же] Таганрогу Петр предназначал на юге такую же роль, какую еще предстояло сыграть на севере Петербургу и Кронштадту»209.
Создание Санкт-Петербурга во многом было вынужденной мерой, обусловленной обстоятельствами Великой Северной войны (1700–1721), по окончании которой Петр сразу же вернулся к старой «восточной идее». В новых реалиях Санкт-Петербург должен был стать ключевым пунктом трансконтинентальной торговли, через который восточные товары пошли бы на Запад, а западные – на Восток. С этой целью еще в 1713 году был введен запрет на ввоз в Архангельск из внутренних районов страны главных товаров русского экспорта – пеньки, юфти (обработанной кожи), поташа и др. Эти товары должны были направляться в Санкт-Петербург. Указом 1721 года пошлины на товары, продававшиеся в Архангельске, были увеличены на треть по сравнению с пошлинами на те же товары при продаже в Санкт-Петербурге. Таким образом превращение Санкт-Петербурга в крупнейший российский торговый порт во многом происходило за счет упадка архангельской торговли. Е. А. Анисимов приводит красноречивые документы, свидетельствующие о том, какую цену Первый Север России заплатил за возвышение Санкт-Петербурга:
В 1726 году в одной из правительственных записок было откровенно сказано: «Тягость в переводе и в пресечении купечества к городу Архангельскому паче всех чувствуют поморские крестьяне… понеже и в доброе время у них хлеба мало родится, и крестьяне тамошние больше кормились извозом у города, на Вологде и в Ярославле, и в других тамошних местах всякою работою, и тем подати оплачивали, отчего ныне всего лишены». Примерно в то же время посадские Вологды сообщали в своей челобитной: «Им, вологжанам, посадским людям, в 1722 году от пресечения к городу Архангельскому торгов, отпуску на Вологде судов и снастей погибло многое число и учинилось великое разорение»210.
Кроме того, Великая Северная война подорвала и российские заполярные промыслы. В частности, из-за опасности нападений со стороны шведов с 1701 года был введен запрет на выход в море211. От тех же промысловиков, которым удавалось получить царское разрешение на плавание к Мурманскому берегу, требовалось построить новые, по западноевропейскому образцу, суда или «заорлить» свои суда, построенные ранее по традиционным поморским технологиям, то есть получить официальное разрешение на продление срока их эксплуатации212. В итоге мурманские промыслы утратили международный масштаб и переориентировались исключительно на внутренний рынок213. Вместе с тем было бы неверным полагать, что история Архангельского Севера на этом завершилась. Его роль в экономике страны по-прежнему оставалась существенной, в конце XVIII века через него проходило 38,7 % всего российского экспорта и 16,8 % импорта214.
В 1722 году, отправляясь в Персидский поход с целью получения выхода к Каспийскому морю, Петр провозгласил себя на восточный манер «султаном северов [северных стран] и владыкой (хаканом) морей»215. Согласно географическим представлением того времени, через Каспий открывался прямой речной путь в Индию. Таким образом «самодержец (ходдар) земель стран северных, восхода и заката и полуденной половины» намеревался подчинить себе южные земли. Более всего «Петра Великого, вступившего на стези Александра Великого» (так императора прославляли сенаторы после его победы над персидским шахом) увлекала надежда получить в свои руки шелковое дело, сулящее огромные прибыли216.
Не менее важная роль в осуществлении «восточной идеи» Петра отводилась Сибири. Ее первому губернатору князю М. П. Гагарину было поручено принять меры к активизации русско-китайской торговли. Тобольский губернатор развернул на этом направлении столь бурную деятельность, включающую в себя отправку на восток многочисленных торгово-разведывательных экспедиций и церковных миссий, дипломатические интриги и даже формирование собственной армии из пленных шведов, что его враги смогли легко убедить Петра в намерениях князя отделить Сибирь от России и провозгласить себя сибирским царем217. Впрочем, отставка и казнь М. П. Гагарина ни в коей мере не означали отказ от «восточной идеи». Заключенный в 1727 году Кяхтинский трактат способствовал сближению России и Китая и значительному росту объема торговли между ними218. Однако конкуренция морских путей сообщения и постоянное государственное вмешательство в русскую торговлю с Китаем (государственные караваны и монополии на торговлю «мягкой рухлядью») не позволили последней выйти на глобальный уровень219.
В итоге при Петре I Россия заняла вполне определенное место на европейской оси симметрии «Север – Юг»220. Перенос столицы в Санкт-Петербург закрепил в глазах европейцев статус страны как северной державы221. За российскими императорами и императрицами прочно закрепился статус самодержцев Севера. В годы царствования Екатерины I Фонтенель, воздавая ей хвалу, писал: «У датчан была королева [королева Дании и Швеции Маргарете I (годы правления: 1387–1396 (Дания), 1389–1396 (Швеция); годы жизни: 1353–1412), которую прозвали Семирамидой Севера; русским нужно найти какое-нибудь столь же славное прозвище для своей императрицы». В 1742 году Вольтер в полемическом письме к шведскому историку Нордбергу, автору «Истории Карла XII», демонстративно назвал Северной Семирамидой (Sémiramis du Nord) не Маргарету I, а Елизавету Петровну, тем самым подчеркнув, что отныне слава Швеции перешла к России. Три года спустя, обращаясь к самой Елизавете Петровне, Вольтер снова назвал ее Северной Семирамидой. Позже, в стихах, посвященных Екатерине II, французский философ именовал императрицу «северной Минервой»222. Европейские интеллектуалы XVIII века включали Россию в общую категорию «северных королевств», как это сделал, например, Уильям Кокс в своей книге «Путешествия через Польшу, Россию, Швецию и Данию»223. Переведя на французский язык книгу Д. Уильямса «История правительств Севера» («Histoire des gouvernements du Nord»), к числу которых автор отнес Данию и Швецию, сподвижник Д. Дидро и будущий член Учредительного собрания 1789 года Ж.-Н. Деменье добавил к оригиналу пространную часть собственного сочинения, посвященную России224. Для самого Дидро, как известно, поехать в Россию означало «отправиться на Северный полюс»225. Особый интерес «энциклопедистов» к России отличался выраженной тенденцией к ее экзотизации как северной страны. С. А. Мезин отмечает в этой связи:
В статьях «Камчатка», «Новая Земля», «Сибирь» и других, посвященных крайнему Северу, авторы «Энциклопедии» описывали чудеса сибирской природы и отдавали должное российским ученым – участникам Сибирских экспедиций. В своей совокупности эти статьи формировали специфический образ России. Анализ материалов, посвященных географии и народам России, привел Белисса к парадоксальному выводу, что не европейская Россия и сами русские интересовали энциклопедистов в первую очередь, а окраины страны, населенные разнообразными «дикими» и «варварскими» народами – татарами, остяками, самоедами… и т. д.226
Со своей стороны обладатели и обладательницы российского трона, правящие огромной страной из отстроенного в стиле лаконичного североевропейского барокко города, охотно принимали свою северную титулатуру и подкрепляли ее целым рядом символических жестов – от сооружения Ледяного дома227 до отправки наследника престола в зарубежное турне под именем графа Северного. Именно к этому времени относится возникновение «русского северянства»228. Идея северной империи, вольно и энергично распространяющейся вширь из новой столицы, называемой иностранцами «Северной Пальмирой», сменила идею «третьего и последнего Рима», тесно связанную с древней Москвой как конечным пунктом уединения и спасения «истинной веры»229. Во второй половине XVIII века «северность» стала важным маркером российской имперскости. Г. Р. Державин использовал мотив «всепобеждающей зимы», естественным образом выступающей в сражениях на стороне северян-россов (ода «Осень во время взятия Очакова»), воспевал русских солдат – «в зиме рожденных под снегами» богатырей (ода «На взятие Измаила») и превозносил Екатерину II как «Северную Минерву» («Водопад»)230.
Следует заметить, что в европейской культуре со времен Ренессанса риторическое противопоставление «Севера» и «Юга» осмысливалось как противопоставление «варварства» и «цивилизации»231. Восприятие новой России в этом ключе не было единым. Если такие властители умов, как Монтескье, Дидро и Вольтер, верили в реформаторские устремления российских просвещенных монархов, предрекая время, «когда всякий свет будет исходить к нам с Севера»232, то ученик Монтескье и «энциклопедист» Александр Делейр, вопреки мнению своего учителя, не считал Россию европейской державой, рассматривая ее как деспотическое государство Севера. Он не видел в ней ни преимуществ «варварских» народов (в духе руссоистского образа «благородного дикаря»), ни ценностей «просвещенных» европейцев (в духе политической доктрины Дидро). Более того, экспансионистская политика России, по мнению А. Делейра, несла варварство другим народам. Поэтому философ призывал к разделу России другими северными государствами – Польшей, Швецией и Данией233. По существу, это была проекция собственных имперских амбиций на Россию и страх от возможности их осуществления «варварским» государством. В конце XVIII века Сибирь и Тихий океан стали глобальными ориентирами европейских имперских проектов234.
В то самое время, когда А. Делейр выступал за расчленение России, Екатерина II последовательно поддерживала дипломатический курс президента Коллегии иностранных дел графа Н. И. Панина, известный как «Северный союз» или «Северный аккорд» и направленный на закрепление европейского status quo, главным гарантом которого был прочный союз России с Фридрихом II Прусским. Н. И. Панин стремился к общему посредничеству, которое положило бы конец любым войнам, однако новые экспансионистские планы Екатерины II, принятые в начале 1780-х годов, требовали более решительных действий235. Со времени основания Третьего Севера России в Санкт-Петербурге главной задачей его царственных жителей было, как отмечалось выше, превращение России в транзитную страну для контактов как Севера с Югом, так и Запада с Востоком236, что должно было обеспечить достижение меркантилистского идеала – интенсивной международной торговли с положительным балансом импорта и экспорта237. Именно поэтому вплоть до рубежа XIX–XX веков российские монархи считали приоритетным южное направлением своей политики. Именно на этом направлении велись все крупные войны, развивались торгово-экономическая экспансия и колонизационные процессы. Таким образом Россия включалась в мировую торговлю и колониальную политику238.
Продвижение России на Юг вызвало в сознании современников отмеченное и тщательно проанализированное Л. Вульфом обособление Западной Европы и Европы Восточной: «Польша и Россия более не ассоциировались со Швецией и Данией, а взамен оказались связанными с Венгрией и Богемией, балканскими владениями Оттоманской империи, и даже с Крымом»239. Однако при этом континентальная ось «Север – Юг» не утратила свое значение. Российская экспансия на Юг и позже на Восток была продиктована интересами Санкт-Петербурга как северной столицы. Не случайно знаменитому крымскому путешествию Екатерины II предшествовало ее путешествие по северным водным путям, составлявшим Вышневолоцкую водную систему общей протяженностью почти 800 километров и предназначенным для перевозки товаров с юга в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в глубь страны240. Участие России в разделе Речи Посполитой во многом было обусловлено стремлением Екатерины II «спрямить» торговые пути, соединяющие столицу империи с ее южными владениями.
Царица, севером владея,Предписывает всем закон:В деснице жезл судьбы имея,Вращает сферу без препон, —восторженно писал 21 декабря 1794 года после взятия им Варшавы А. В. Суворов-Рымникский Г. Р. Державину241.
Путешествовавший по Европе в 1789–1790 годах Н. М. Карамзин, «питомец железного севера»242, как он сам называл себя в «Письмах русского путешественника», видел свою миссию в том, чтобы представить своим ученым европейским собеседникам Россию как неотъемлемую часть просвещенного европейского Севера. Во время визита к швейцарскому натуралисту и философу Шарлю Бонне (1720–1793) Н. М. Карамзин пошутил:
«Теперь вы окружены севером», – сказал я, когда мы [датчане Молтке, Багзен, Беккер и я] сели вокруг него [Шарля Бонне]. «Мы многим обязаны вашему краю, – отвечал он, – там взошла новая заря наук; я говорю об Англии, которая есть также северная земля; а Линней был ваш сосед»243.
Таким образом Н. М. Карамзин риторически закреплял место России в кругу передовых государств своего времени, подчеркивая, что все они, как и его родина, расположены «прямо к северу»244. Благодаря усилиям Н. М. Карамзина в программу журнала Le Spectateur du Nord, издававшегося на французском языке в Гамбурге в 1797–1806 годах и посвященного литературе и культуре Северной Европы (Англии, Германии и Скандинавии) была включена и Россия245. Однако в массовом европейском сознании Россия еще долго представлялась периферийной страной, а россияне, что стало клише в эпоху Наполеоновских войн, – реинкарнацией гуннов. Олицетворением этого образа стали дошедшие в 1814 году до Парижа донские казаки, чей атаман, М. И. Платов, уезжая из Труа, бросил членам муниципалитета исполненную насмешливой самоиронии фразу: «Господа, варвары севера, покидая город, имеют честь вас приветствовать»246.
1.2. Инвентаризация имперской северной периферии
В основе петровской модернизации России лежали принципы «имперского камерализма», согласно которым «добрый порядок» достигался посредством рациональной организации государственных учреждений247. Государственный механизм уподоблялся часам. Эту метафору Петру подсказал Г. Ф. Лейбниц: «Опыт достаточно показал, что государство можно привести в цветущее состояние только посредством учреждения хороших коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение другим, так и в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмеренностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы»248. «Государственная машина» должна была обеспечить максимально эффективное использование всех имперских ресурсов, а для этого прежде всего провести их полную инвентаризацию. В этом отношении камерализм выражал дух своего времени с характерным для него стремлением к картографированию, каталогизации и систематизации всего окружающего мира. Камерализм был неразрывно связан с программой «той великой инвентаризационной описи мира», которая ознаменовала «конец старой и начало новой эпохи мировой истории»249. Беспрецедентный рост промышленного производства в России первой половины XVIII века едва ли был бы возможен без гигантского труда по исследованию природных (в первую очередь горнорудных, минеральных и лесных) запасов страны. Ускоренная модернизация требовала небывалого количества ресурсов, сведения о которых были фрагментарны, разрозненны и далеко не всегда достоверны. Значительная часть территорий Российского государства оставалась для его правителей terra incognita. Добываемые отдельными учеными сведения о «естественных произведениях Отечества» надлежало, по словам академика Императорской академии наук В. М. Севергина, «привести в такой систематический порядок, по коему бы, так сказать, единым взглядом обозреть можно было все то, что доселе в разных странах Империи Российской открыто было… к старым наблюдениям присовокупить новые, к известным неизвестные и все вообще представить в такой связи, которая бы удовлетворяла и любопытству читателя, и ученому порядку была прилична»250
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Кизеветтер А. А. Русский Север. Роль Северного края Европейской России в истории русского государства. Вологда, 1919. С. 64. Только в первой четверти XX века, особенно в связи с началом Первой мировой войны, возникли государственные программы развития отдельных сегментов имперской северной периферии. См.: Josephson P. The Conquest of the Russian Arctic. Cambridge, MA, 2014. P. 3; The Barents Region a Transnational History of Subarctic Northern Europe / Ed. by Lars Elenius. Oslo, 2015. P. 183–186.
2
Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. С. 156; Ремнев А. В. Колония или окраина? Сибирь в имперском дискурсе XIX века // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004. С. 112–146; Урушадзе А. Т., Гром О. А., Дмитриева Н. В. Российская империя и национальные окраины: между теорией самодержавия и практикой управления // Quaestio Rossica. 2018. Т. 6. № 3. С. 835–853; Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999.
3
Кара-Мурза А. А. Россия как «Север». Метаморфозы национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г. Р. Державин // Философские науки. 2016. № 11. С. 121–134; Кара-Мурза А. А. Концепция «русского северянства» в героических одах Г. Р. Державина (к вопросу о российской идентичности) // Политическая концептология. 2017. № 3. С. 187–194; Кара-Мурза А. А. У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (конец XVIII – начало XIX вв.: Муравьев, Карамзин, Батюшков) // Полилог/Polylogos. 2022. Т. 6. № 2; Кара-Мурза А. А. У истоков «русского северянства»: споры о Ломоносове (первая треть XIX в.: Мерзляков, Грибоедов, Бестужев-Марлинский) // Полилог/Polylogos. 2022. T. 6. № 2; Кара-Мурза А. А. «Северная» идентичность России как предмет цивилизационной самокритики (от Петра Чаадаева до Василия Шульгина) // Философский журнал. 2022. Т. 15. № 2. С. 5–16. Современным вариантом «северянства» является подход А. В. Головнева. См.: Головнев А. В. Северность России. СПб., 2022. Северность России рассматривается и как ее перспективный бренд. Казначеев С. М. Сибирь и Север как брэнды русской культуры // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2005. Т. 3. Вып. 2. С. 75–80.
4
См.: Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М., 2017. С. 97–98; Гордин Я. А. Паломничество в Страну Севера. Север в русской поэзии как историческое и метафизическое зеркало // Звезда. 2018. № 7. С. 231–264.
5
Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton, 2010. P. 13–14.
6
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М., 2003.
7
Крайковский А. В., Дадыкина М. М., Лайус Ю. А. Природные ресурсы Шпицбергена и проекты преобразования русских морских промыслов в XVIII в. // Экологическая история Сибирского Севера: перспективные направления исследований. Материалы Всероссийского научного семинара 15–16 октября 2015, г. Сургут. Сургут, 2015. С. 83; Kraikovsky A. V. The governmental projects of modernization of herring fisheries in Russia // Fishes – culture – environment through Archaeoichtyology, Ethnography and History. The 15th Meeting of ICAZ FRWG. Environment and Culture. Vol. 7. Poznan, 2009. Р. 96–98.
8
Крайковский А. В., Дадыкина М. М., Лайус Ю. А. Природные ресурсы… С. 83.
9
Мокир Дж. Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция 1700–1850 гг. / Пер. с англ. Н. Эдельмана. М., 2017. С. 243.
10
Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Пер. с англ. Д. Уэланера, М. Маркова, Д. Раскова, А. Расковой. М., 2011. С. 65.
11
Могильнер М. Homo imperii. История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX в.). М., 2008. С. 9.
12
См.: Агапов М. Г., Клюева В. П. «Север зовет!»: мотив «северное притяжение» в истории освоения Российской Арктики // Сибирские исторические исследования. 2018. № 4. С. 6–24.
13
Опубликованный в 1864–1865 годах роман Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» впервые вышел на русском языке в 1870 году и пользовался большим успехом у широкой публики. Брандис Е. Жюль Верн в России // Жюль Верн. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 12. М., 1957. С. 670–678.
14
Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза / Пер. с нем. Иванова В. М. и др. Кременчуг, 1999. С. 830.
15
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1987. С. 64.
16
Цит. по: Зенов П. М. Памяти архангельского гражданина Михаила Константиновича Сидорова, стража интересов Севера России. Пг., 1916. С. 14.
17
Визе В. Ю. Моря Советской Арктики: Очерки по истории исследования. М.; Л., 1948. С. 142.
18
Омельчук А. К. Зов Арктики. Свердловск, 1980. С. 94–100.
19
Латкин В. Н. По вопросу о содействии и поощрениях для развития русского торгового флота // Беседы о Севере России в 3 Отделении Императорского Вольного экономического общества по докладам: В. Л. Долинского (1, 4, 5 и 6-й); В. Н. Латкина (2-й) и М. К. Сидорова (3-й). СПб., 1867. С. 86.
20
Сидоров М. К. Труды для ознакомления с Севером России. СПб., 1882. С. 126.
21
Долинский В. Л. О судостроении в Северном крае и о возможности образовать русский торговый флот // Беседы о Севере России в 3 Отделении Императорского Вольного экономического общества по докладам: В. Л. Долинского (1, 4, 5 и 6-й); В. Н. Латкина (2-й) и М. К. Сидорова (3-й). СПб., 1867. С. 40.
22
Шавров Н. А. Несколько данных о жизни и деятельности знаменитого русского патриота и деятеля Севера Михаила Константиновича Сидорова // Памяти Михаила Константиновича Сидорова: С его портретом. М., 1889. С. 9; Макаров С. О. «Ермак» во льдах. Описание постройки и плавания ледокола «Ермак» и свод научных материалов, собранных в плавании. СПб., 1901. С. 104.
23
Цит. по: Богданов И. А. Петербургская фамилия: Латкины. СПб., 2002. С. 81.
24
Жилинский А. А. Крайний Север Европейской России: Архангельская губерния. Пг., 1919. С. 244.
25
Зенов П. М. Памяти архангельского гражданина. С. 16.
26
Хроника // Морская газета «Яхта». 1877. 5 февраля. № 6. С. 3.
27
Жилинский А. А. Россия на севере: (К описанию жизни и деятельности М. К. Сидорова). Архангельск, 1918. С. 3.
28
Сидоров М. К. Проект купца Сидорова о заселении Севера Сибири путем промышленности и торговли и о развитии внешней торговли Сибири. Тобольск, 1864. С. 12.
29
Образованный в 1924 году Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК (Комитет Севера) противопоставлял «эксплуататорской» дореволюционной колонизации Крайнего Севера новый подход – промысловую колонизацию, которая должна была превратить индигенное население в поставщиков сырья на северные индустриальные предприятия. Стась И. Н. Советская колонизация Арктики: государственная этнография и «туземный пролетариат» в экономических стратегиях развития Крайнего Севера (середина 1920-х – конец 1930-х гг.) // Ab Imperio. 2021. № 1. С. 96.