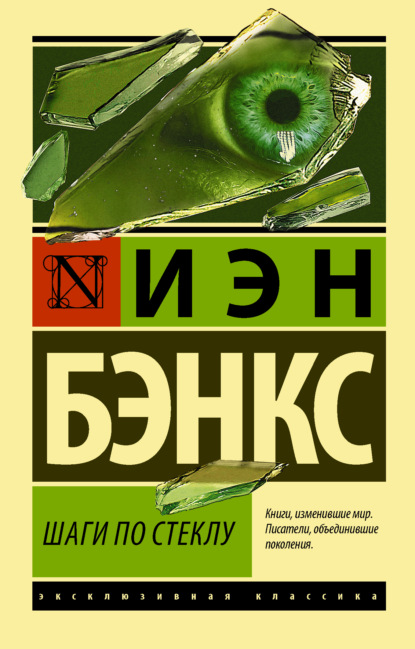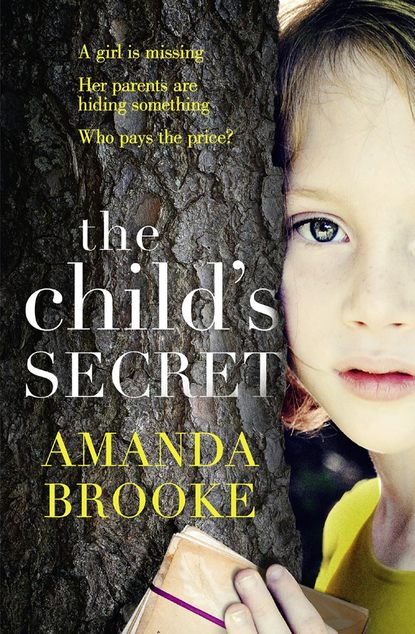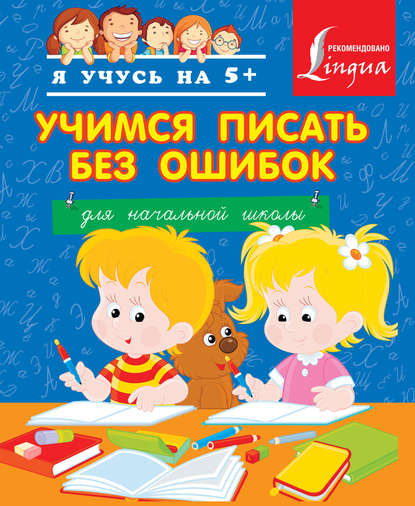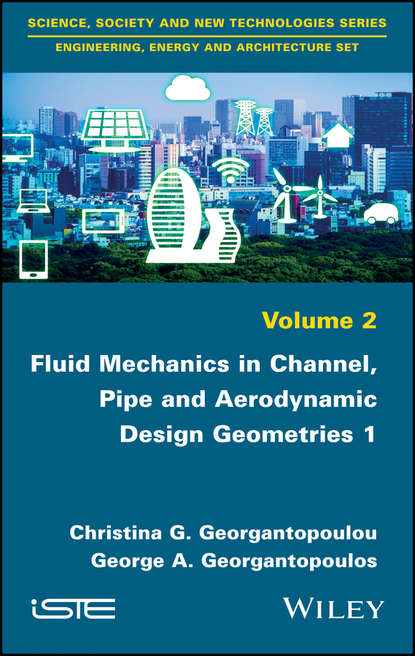Конституция РФ как источник аксиом частного права. Опыт логического вычисления
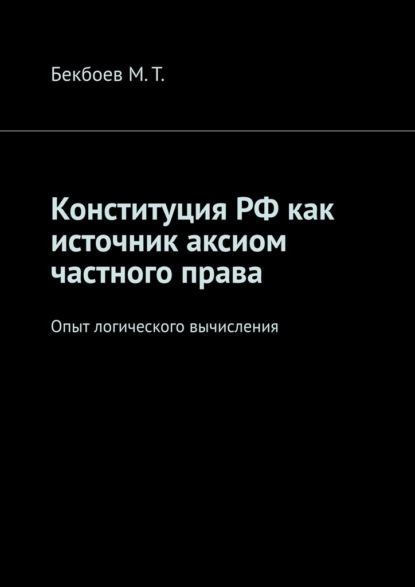
- -
- 100%
- +

«Поэтому здесь приводится некое новое замечательное исчисление, которое имеет отношение ко всем нашим рассуждениям и которое строится не менее строго, чем арифметика или алгебра. С его применением могут быть навсегда покончены споры, поскольку они разрешимы на основе данных; и стоит только взяться за перья, как уже будет достаточно, чтобы двое спорящих, отбросив словопрения, сказали друг другу: давайте посчитаем!»
Г.-В. Лейбниц [1, c. 444]
Составитель М. Т. Бекбоев
© М. Т. Бекбоев, составитель, 2025
ISBN 978-5-0068-3809-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1. Введение
Правовед Е. Н. Лисанюк в водной статье к «Нормативным системам» (2013г.) пишет о том, что, хотя идеал нормативной системы можно назвать наивно-дедуктивистским, тем не менее, «этот идеал выступает одним из методологических принципов юридической науки, и использовать его надлежит для того, чтобы уточнить те закономерные связи внутри нормативных контекстов, которые являются логическими» [2, c. 26—27].
«В этом случае для некоторого произвольного множества можно использовать некое формальное понимание логического следования вообще, а именно процедуру превращения этого множества в систему путем применения к нему операции взятия следствий.…
Ключевой особенностью формальной системы с точки зрения логики является необходимый характер истинности производных в ней высказываний, обеспечиваемый, с одной стороны, аксиоматическим базисом системы, с другой – выполнением требований корректности и непротиворечивости» [2, c. 25—27].
При создании в математике формальных аксиоматических систем аксиомы вводились до построения формальной системы; собственно, с аксиом всё только начиналось. При этом аксиомы принимались на содержательном уровне и вводились таким образом, чтобы утверждения, в них содержащиеся, были очевидны для всех. Как известно, в математике существует несколько аксиоматических систем, созданных разными авторами, которые руководствовались своими собственными критериями очевидности, среди них, например, система Цермело – Френкеля, система фон Неймана, система Бернайса – Геделя и система Куайна [3, c. 32].
Подобный путь – введение аксиом изначально, исходя из критерия очевидности, возможен и в юриспруденции [4], [5, c. 765], [6]. При этом встает задача доказательства полноты, замкнутости и непротиворечивости соответствующих правовых систем.
Однако возможен и другой подход, условно говоря, от обратного – не придумывать аксиомы, исходя из каких-то собственных представлений, а определить (вывести) «обратным пересчетом» из действующей реально и максимальной общей системы правовых доктрин. Можно рассматривать статьи Конституции Российской Федерации как множество теорем, выведенных из каких-то аксиом, и попытаться найти эти аксиомы [7, c. 23]. На содержательном уровне, без привлечения специальных методов математической логики сделать это практически невозможно.
Относительно недавно появился метод, который можно назвать Е-анализом1, разработанный Санкт-Петербургским логиком и математиком Б. А. Куликом [8]. Этот метод позволяет по множеству предложений, записанных в классической форме атрибутивных суждений (по схеме субъект – предикат), во-первых, определить все внутренние противоречия между этими суждениями, во-вторых, найти все недостающие суждения и дополнить первоначальную систему до полной, и, в-третьих, определить те основные (в терминах Б. А. Кулика) минимальные посылки, из которых может быть логически выведена вся система. Эти минимальные посылки можно назвать аксиомами анализируемой системы. Разработанный Б. А. Куликом метод позволяет определить и многое другое [9], однако это должно представлять интерес для профессиональных логиков.
Мы же попытаемся при помощи указанного метода найти – вычислить – аксиомы (исходные посылки) частного права формальным логическим путем. Этому посвящено настоящее исследование.
Исследование структуры права именно математическими методами предлагает правовед В. П. Павлов – «Математика, представляющая собой предельно формализованную иерархию структур, является идеальным инструментом для исследований в области права» [10, c. 26]. О возможности, желательности и необходимости формализации права в математическом смысле написано давно и много. Еще в 1968 году О. Е. Кутафин писал о формализации права. Об этом же писал С. С. Алексеев [11, c. 43] и другие правоведы [10]. Аргентинские правоведы К. Э. Альчурон и Е. В. Булыгин [2], [12] пользуются символизацией практически совпадающей с исчислением (логикой) первого порядка.
Более того, юрист В. М. Костылев заявил о необходимости использовать для формализации права не только логику предикатов первого порядка, но и логику (исчисление) более высоких порядков – второго и более [13].
А. Ф. Черданцев подчеркивает «Не менее важным при рассмотрении понятий в правовой сфере является поиск исходной основной категории (понятия), из которой развертывается вся система правовых категорий, по сути, строится вся теория права» [14, c. 42].
Зачем вообще нужно искать аксиомы права?
Как пишет В. И. Игошин:
«… математическая наука достигает совершенства лишь тогда, когда ей удается пользоваться аксиоматическим методом, т.е. когда наука принимает характер аксиоматической теории. … Характеристика свойств аксиоматических теорий – непротиворечивость, категоричность, полнота, независимость системы аксиом» [15, c. 226]. Таким образом, ответ очевиден – если удастся аксиоматизировать право, то мы сможем гарантировать праву все указанные характеристики аксиоматической теории – непротиворечивость, полноту, независимость аксиом и категоричность!
Несомненно, что право может быть аксиоматизировано, поскольку оно достигло соответствующего уровня формализации [15, c. 229], [16, с. 103].
Я считаю, что указанные исходные правовые понятия (аксиомы) логично искать в Конституции РФ. Вопреки уверениям А. Ф. Черданцева, что невозможно вывести систему права из аксиом [14, c. 263], я полагаю, что сделать это вполне возможно; главное – наличие подходящего, адекватного, инструмента [17, xxvi]. Так, например, Ю. Е. Пермяков явно указывает на аксиоматичность языка права [18, c. 78], [19, с. 50]. Это подтверждают и В. В. Оглезнев и В. А. Суровцев [20, c. 26].
Одним из методов аргументации в гуманитарных науках, в том числе и в юриспруденции, является ссылка на авторитет других ученых [21, c. 147]. Например, философ А. А. Ивин пишет: «В серьезных доказательствах всегда прибегают к ссылкам на авторитетные источники в качестве исходного пункта и надежной поддержки. … Авторитет личности имеет своим последним основанием не подчинение и отречение от разума, а осознание того, что эта личность превосходит нас умом и остротою суждения» [22, c. 124], [23, c. 88]. В соответствии с этим тезисом в настоящей работе приводятся цитаты из публикаций авторитетов в соответствующей области, иногда достаточно длинные. Сделано это для обоснования и большей убедительности, чтобы не «изобретать велосипед» и не получилось изложения своими словами «Евгения Онегина» или повторение (напевание) своим голосом исполнения Пласидо Доминго арии Германа из оперы «Пиковая дама».
Ожерелье цитат, нанизанных на замысел автора, составляют основную идею (нить) «теоретической» части2 исследования, а именно —
Юристам – правоведам, адвокатам и государственным служащим – приходится работать с текстами правовых актов. У правоприменителей возникает не тривиальная задача «правильного понимания» текста. Как пишет лингвист М. К. Тимофеева [24, c. 23]:
«Выражение «понятный текст» … неоднозначно. Возможны три варианта:
(1) понятно, что сказано; не понятно, о чём сказано;
(2) понятно, что и о чём сказано; не понятно, зачем сказано;
(3) понятно, что, о чём и зачем сказано».
М. К. Тимофеева отмечает: «любой осмысленный текст, обращённый к собеседнику, можно рассматривать как императив: высказывание текста всегда есть повеление воспринять содержание данного текста» [25, c. 262]. Для нормативных текстов А. А. Ивин подчеркивает «Правовая норма – это социально навязанная и социально закрепленная оценка. Средством, с помощью которого оценка превращается в норму, является санкция, или „наказание“ в широком смысле слова, налагаемое обществом на тех, кто отступает от установленных им предписаний» [26, c. 198].
«Именно цель производства знака задаёт тот критерий, относительно которого знак оценивается как понятный, а использование знака – как успешное (3)3» [25, c. 109]
Таким образом, анализ (любого4) текста должен начинаться с прагматики5, переходить к семантике и затем – к синтаксису. «В общей семиотике синтаксис определяют как отношения на множестве знаков, задающие возможности их комбинирования в тексте (1)6; семантику – как отношения между знаками и тем, что они обозначают (2); прагматику – как отношения между знаками и теми, кто их использует (3)» [25, c. 251].
В настоящем исследовании показано, что семантика текста позволяет однозначным образом определить содержание текста, закодировать его в логические формулы и дедуктивно вычислить следствия, противоречия и исходные логические посылки (аксиомы).
Для извлечения «истинного содержания» из текстов Конституции РФ (и любого правового теста) требуется адекватный логический аппарат (и компьютерная программа).
На основе работ логиков в главе «2. Логика предикатов vs (поли-) силлогистики» показывается, что для любых целей хватит «языка свойств (одноместных отношений)» вместо логики предикатов. Философ и логик В. И. Шалак показал, что языка свойств «вполне достаточно для выражения тех же математических и физических идей, которые находят оформление в терминах логики предикатов» [27, c. 260].
Кроме того, в этой же главе 2 настоящего исследования показано, что даже для математических целей логика 2-го порядка избыточна, не говоря уже о логиках более высоких порядков.
Семантика правового текста рассматривается в главе «3. О представлении семантики текста» с обильным цитированием известных лингвистов, работающих в этой области. Формализация (кодирование) семантики текстов – это, по сути, извлечение содержания из текста, перевод на логический язык, в логическую форму.
В главе «4. Логические схемы суждений. Атрибутивные высказывания» рассматривается переход от семантики к синтаксису. Это обусловлено «необходимостью представить содержание текста в таком виде, чтобы к нему были приложимы логические понятия» [25, c. 212]. М.К Тимофеева констатирует: «в реальном языке – проявляется только одна структура и соответственно адекватной является только одна логическая форма (если текст воспринимается как неоднозначный, она просто будет иметь вид дизъюнкции)» [25, c. 213]. «Логическая форма высказывания – это описание его смысла… на языке логики. Фактически это есть межъязыковой перевод: с естественного (русского, английского и т.д.) языка на логический язык. … Представление смысла текста в виде логической формулы позволяет применять к нему правила логического вывода, что, в свою очередь, дает возможность моделировать семантические преобразования, выводить следствия, исследовать прагматические аспекты текста» [28, c. 153].
Показано, что традиционная схема предложения «подлежащее – сказуемое» обусловлена, в том числе, психологическими факторами и картиной мира – в СЕС стандарте7. Синтаксически эта схема совпадает с представлением атрибутивных суждений: субъект – предикат.
Последняя схема используется в Е-анализе и Е-программе для кодирования высказывания в литеральные формулы.
В главе «5. Методика работы с Е-логикой, Е-структурами и Е-программой» описываются технические вопросы записи формул и работы с Е- программой.
Глава «6. Анализ Конституции РФ» посвящена основной цели исследования и является главным вкладом автора. Для анализа отобраны тексты п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3, п. 2. ст. 3, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 15, п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 17, ст. 18, п. 1 ст. 35, п. 2 ст. 35, п. 3 ст.3 5, п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 36, п. 1 ст. 45, п. 2 ст. 45, п. 1 ст. 46, п. 2 ст. 55, п. 3 ст. 55, ст. 60 Конституции РФ.
В этой главе 6 показано, как и почему необходимо предложения языка (текста) приводить к одному виду – либо пассивному, либо активному залогу.
В процессе кодирования проводилось исключение модальности, и для задания универсума рассмотрения выбран один из возможных миров, в котором все предложения Конституции РФ являются истинными, а не модальными [29]. Иными словами, то, что описывается в текстах Конституции РФ как возможное, желательное или запрещенное состояние дел, считается уже состоявшимся: запрещенное – не случилось, возможное и желательное – случилось. Такая модель выбрана для упрощения анализа.
Далее, такие предложения приводились к нормальной форме по В. А. Светлову [30, c. 111]. Затем каждому слову (понятию) и законченному словосочетанию назначался литерал, и предложение записывалось в литеральной формуле Е-структуры. В итоге выбранные из Конституции РФ тексты статей, были представлены набором литеральных формул, описывающих отобранные высказывания, – всего 70 формул.
Формулы вводились в Е-программу в требуемом (цифровом) формате, и проводилось вычисление. Результат работы выводился в виде листинга, состоящего из 7-ми разделов.
Полученные результаты обсуждаются в главе «7. Обсуждение результатов».
Краткая сводка наиболее важных результатов изложены в главе «8. Заключение».
В конце введения хотелось бы отметить следующее.
Санкт-Петербургские правоведы М. А. Антонов и Е. Н. Лисанюк в своей вступительной статье к «Нормативным системам» (2013г.) пишут о том, что «Нормативные системы» неинтересны, как для логиков, так и для юристов – для логиков слишком просто, а для юристов слишком сложно [2, c. 7]. Автор смеет тешить себя надеждой, что и к настоящей работе можно отнести этот же упрек.
Наконец, хотелось бы извиниться и объяснить читателю, почему автор в настоящем исследовании так подробно излагает свои доводы – автор в силу первого технического образования следует стандартам публикаций по физике и математике для того, чтобы можно было повторить результаты (важно для экспериментаторов) и чтобы каждый мог пройти тот же путь и убедиться, что автор прав либо найти ошибку.
Читателям, которым описанное ожерелье цитат и рассуждений автора не интересно, могут сразу перейти к главе «8. Заключение».
В тексте работы нумерация формул состоит из двух цифр – первая означает номер главы, вторая цифра (после точки) – порядковый номер формулы в главе.
В главе «6. Анализ Конституции РФ» при анализе текстов некоторых статей используется обозначения из букв русского алфавита со сквозной цифровой нумерацией внутри этого анализа (рассматриваемой статьи) и не используется вне его.
Нумерация в записях листинга работы Е-программы и примечаниях к листингу описана в главе «7. Обсуждение результатов».
В тексте работы указания статей и пунктов, в том числе в сокращенном виде, относятся к тексту Конституции РФ. Также упоминание просто Конституции означает Конституцию Российской Федерации, если иное прямо не указано.
2. Логика предикатов vs (поли-) силлогистики
Первый очевидный кандидат для формализации и «автоматизации» юридической логики – язык Пролог, построенный на, так называемых, клаузах Хорна. В начале необходимо задать список всех предикатов, которые будут использованы и указать их арность («валентность») и сделать априори ряд других предсказаний о количественных параметрах задачи. Кроме того, требуется ввести заранее определенные отношения между переменными – то есть какие-то «правоотношения» и какие-то «юридические факты».
Подобный подход соответствует тому, что предлагает L.E. Allen, K.D. Ashley, H. Prakken et al [31—33], и от чего необходимо отойти.
Но самое главное, при создании Пролога были введены неочевидные и неадекватные онтологические аксиомы, так, например,
– аксиома замкнутого мира, которая означает, что возможными примерами отношения являются только те факты, которые представлены в спецификации проблемы (в базе данных);
– аксиома замыкания предметной области, которая гарантирует, что определены только те атомы, которые встречаются в спецификации проблемы [34, c. 61].
В ряде – простых – случаев это может быть оправдано, но для целей настоящей работы – не применимо.
Более того, Серго и др. (M. J. Sergot) отмечают, что клаузы Хорна внутренне не адекватны для представления законодательства [35, c. 374].
Получается, что использование Пролога заранее «навязывает» свое представление о структуре (арности) предиката, а также априори «навязывает» структуру правоотношения.
Однако своей задачей я вижу прямо противоположный подход – идти не от своих априорных представлений, а от нормативного первоисточника – от Конституции РФ – «в точном соответствии с текстом статьи нормативного акта» [36, c. 161].
2.1. О логике предикатов второго и более высоких порядков
В учебном пособии для студентов Санкт-Петербургского университета ИТМО8 доказана:
«Теорема 8.3. Для логики второго порядка не существует одновременно полной и корректной формальной системы» [37].
Авторы М. А. Коротков и Е. О. Степанов делают вывод:
«… Утверждение теоремы 8.3 фактически является препятствием к широкому использованию языков логики второго порядка. Языки логики второго порядка являются … „чересчур“ выразительными, настолько, что их чрезмерная выразительная сила ограничивает возможность их применения. В этом смысле языки логики первого порядка являются вполне подходящими, так как инструмент для их использования (достаточно удобные формальные системы) существует, и в то же время, как показывает опыт, при помощи языка логики первого порядка можно записывать практически все важные естественнонаучные теории…» [37].
Стандартный взгляд по этому вопросу представлен знаменитым афоризмом В. Куайна: «Логика второго порядка является теорией множеств в овечьей шкуре» (см., например, его Философию логики). Апелляция к «волку в овечьей шкуре» оправдана прежде всего с точки зрения онтологических допущений: неясные онтологические интенсиональные сущности языка второго порядка менее предпочтительны, чем явные экстенсиональные онтологические допущения теории множеств
Отсутствие свойства полноты у языка второго порядка подорвало претензии этого языка на то, чтобы быть базисным языком оснований математики. Сегодня стандартный взгляд заключается в том, что основания математики представлены логикой первого порядка и теорией множеств» [38, с. 187—188].
Философ А. М. Анисов отмечает: «Эти теории [высокопорядковые логики9] получились слишком сложными технически и не всегда удовлетворительными с точки зрения их метасвойств. Кроме того, в действительности они мало что дали для теории рассуждений. Суть дела в том, что фактически все важные для науки и практики способы рассуждений удаётся адекватно представить уже в первопорядковой логике предикатов» [39, c. 171].
Таким образом, математики (логики), как правило не используют логику второго и более высоких порядков, за исключением каких-нибудь совсем экзотических случаев. Для формализации правовых текстов использовать такие «непредсказуемые» высоко порядковые логик тем более не следует.
Но и логика первого порядка плохо подходит для формализации юриспруденции. Так, например, И. С. Евдокимова подчеркивает: «… выделение классов предикатов и объектов есть процесс.., требующий глубокой лингвистической интуиции от автора…» [40, c. 99]. Иными словами, «перевод» с языка нормативных документов на язык (формулы) логики предикатов является процессом не формальным, но требующим изрядного мастерства и искусства, что делает его невозможным к повторению любым другим юристом.
О том, что профессионалы прикладной области плохо воспринимают логику первого порядка при (для) формализации своей области знаний пишет прикладной системотехник Л. А. Козлов [41, c. 89]. Профессионалы прикладной области предпочитают обычную силлогистику. «… Мы остановили свой выбор на традиционных схемах вывода формальной логики и основанной на силлогистике схемы вывода типа «сорит». Мы ориентировались на работы Л. Кэрролла и Д. Поспелова [50]» [41, c. 90].
Кроме того, логике предикатов присуще внутренние онтологические противоречия [42, c. 8].
При переводе выражения естественного языка (ЕЯ) на язык логики предикатов первого порядка в качестве основы берется сказуемое, которое объявляется главным членом предложения, от которого зависят все остальные, включая и подлежащее.
Но, например, лингвист А. В. Анисимов не согласен с подходом, при котором сказуемое считается главным членом предложения [43, c. 188].
Известный российский лингвист Я. Г. Тестелец отмечает, что подлежащее в некотором смысле «главнее» других членов предложения [44, c. 45].
В свою очередь автор классических учебников и монографий по математической лингвистике А. В. Гладкий подчеркивает, что «… вообще язык логики предикатов вряд ли можно считать адекватным для записи семантической структуры предложений естественного языка» [45, c. 61].
А когнитивный психолог Б. М. Величковский цитирует Голдберга: «Серьёзным недостатком ориентированной на первичность глаголов… грамматики является порочный круг в логическом обосновании. Некоторый глагол считается n-местным предикатом, поскольку у него n дополнений, после чего возможность именно n дополнений объясняется тем, что данный глагол – n-местный предикат (Goldberg, 1995)» [46, c. 141].
Как утверждает лингвист О. Г. Цыганская «… Не валентность глагола определяет структурную схему простого предложения, а наоборот. Это было замечено З. Д. Поповой, которая отметила, что структурная схема10«сильнее» лексического значения входящих в нее словоформ, что ее пропозиция подчиняет себе семантику попадающих в нее слов11» [47, c. 9—10].
Наиболее тщательный анализ использования исчисления (логики) предикатов для анализа выражения на естественном языке (ЕЯ) проведено А. В. Андреевым с соавторами [48], [49]. А. В. Андреевым, О. А. Митрофановой и К. В. Соколовым установлено, что исчисление предикатов не в состоянии адекватно передать содержание (значение) текстов на естественном языке. В упомянутых работах авторы привели множество примеров неадекватности и/или двусмысленности формализации простейших ЕЯ-текстов в рамках логики предикатов. Указанные авторы констатируют:
«Мы либо должны предусмотреть для каждого предиката аргументы для любого возможного дополнения/обстоятельства, а если в каком-то предложении они не выражены, то заполнять пустые места абстрактными переменными, связанными квантором существования; либо же, для каждого глагола возможного набора актантов/сирконстантов должен быть свой отдельный предикат. Ни тот, ни другой подходы, вообще говоря, не обладают достаточной гибкостью» [49, c. 21—22].
«Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов не предназначены и трудно применимы для естественных рассуждений. В искусственном интеллекте, в частности, в таких его разделах, как „Моделирование рассуждений“ [50] и „Автоматическое доказательства теорем“ [51], они не используются в силу малой эффективности, но применяются принципиально иные методы, в частности, метод резолюций и алгоритм унификации» [52, c. 29].
«Бинарное представление, вообще говоря, обладает большей выразительной способностью, нежели n-арное представление. Оно облегчает добавление новой информации и игнорирование пока еще неизвестной информации» [53, c. 50].
Кроме того, «… синтаксическая структура выражений логики предикатов не соответствует синтаксису естественного языка» [49, c. 52]; об этом же пишет Э. Бах [54, c. 38].
К «логическим достоинствам» субъектно-предикатной модели кодирования текста можно отнести то, что «в субъектно-предикатном языке каждое истинное высказывание доказуемо» [55, c. 114].
И, самое главное, В. И. Шалак строго доказал, что атрибутивные высказывания позволяют выразить то же самое, что и логика предикатов! Напомню, что атрибутивные высказывания строятся по схеме субъект – предикат.
«Мы покажем, что вопреки устоявшемуся мнению язык свойств (одноместных отношений) и функций вполне достаточен для выражения тех же математических и физических идей, которые находят оформление в терминах многоместных отношений» [56, c. 15].
Напомню, что одноместные отношения называются свойствами [57, c. 13], [58, c. 27]. Так, например, В. В. Мадер отмечает «Унарные отношения выражают свойства предметов, например, быть красным, деревянным, быть четным, простым, составным, быть точкой, прямой, треугольником, кругом и т.п.» [59, c. 114—115].