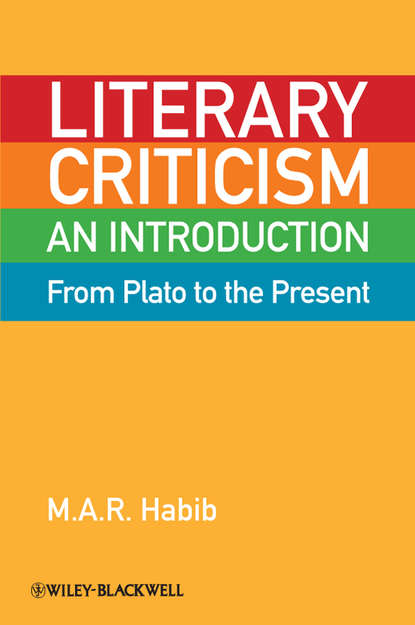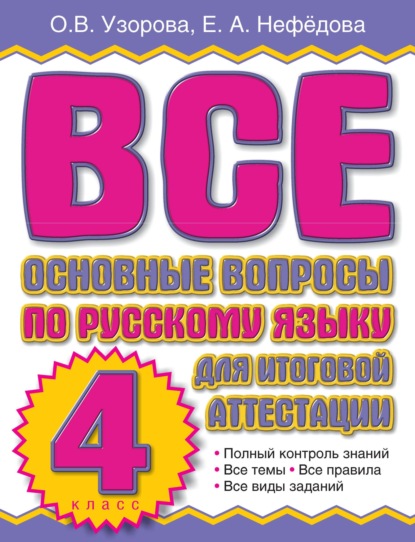Конституция РФ как источник аксиом частного права. Опыт логического вычисления
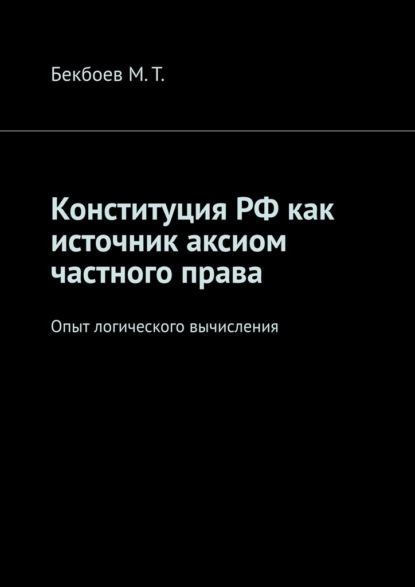
- -
- 100%
- +
В. А. Шалак констатирует:
«Рассел ошибался, когда думал, будто показал, что суждения об отношениях нельзя свести к высказываниям о присущности свойства отдельному объекту12. Можно предположить, что в результате этой ошибки наша картина мира оказалась искусственно искаженной» [27, c. 271].
Важно подчеркнуть, что «высказывания о присущности свойства отдельному объекту» ничто иное, как атрибутивные высказывания!
Вот как определяет атрибутивные суждения известный советский и российский логик Ю. В. Ивлев: «Атрибутивными называются суждения, в которых выражается наличие или отсутствие у предметов каких-либо свойств. Атрибутивные суждения можно истолковать как суждения о полном или частичном включении или невключении одного множества предметов в другое13 или как суждения о принадлежности или непринадлежности предмета классу предметов» [60, c. 44].
Аналогичные определения содержатся в учебниках логики для юристов [61, c. 49—50], [62, c. 64], а также в учебниках логики других авторов [63, c. 32—34], [64, c. 32—33], [65, c. 86].
Для целей настоящего исследования важно, что «одноместный фрагмент исчисления предикатов содержится в силлогистике» [66, c. 111].
2.2. О силлогистике и полисиллогистике
«Силлогистика (от греч. συλλογιστικός – умозаключающий), раздел дедуктивной логики, исследующий логические характеристики атрибутивных высказываний и логические отношения между ними» [67].
Преимущество силлогистики для анализа – в том числе, нормативных текстов заключается в том, что «… силлогистика отличается значительной простотой, элегантностью и кажущейся самоочевидностью устанавливаемых в ней логических законов, формулировка которых осуществляется почти на естественном языке без использования какой-либо сложной символики» [68, c. 172].
Как отмечает лингвист А. Т. Кривоносов:
«… Сам язык – это область формальной логики, и в частности теории силлогистики.
Формальная логика уже давно систематически исследовала то, к чему люди постоянно прибегают бессознательно.
Естественное логическое мышление и соответствующие ему логические формы есть реально существующий факт. Человек может и не знать не только о силлогизмах, модусах, фигурах, но и вообще о существовании логики как науки. И тем не менее в его речи мы сплошь и рядом находим формы мысли, изучаемые логикой. Все дело в том, что человек впитывает с детства свой родной язык, а вместе с ним и логику, заложенную в формах родного языка» [69, c. 16—18].
«Логика, по сути, началась с открытия Аристотеля [70, c. 119], который разработал систему анализа рассуждений (силлогистику) еще в IV веке до новый эры. Правила силлогистики, широко применялись в разных областях знаний на протяжении более чем двух тысячелетий и мало изменились за это время. Основная задача силлогистики заключается в том, чтобы проверить правильность рассуждения, содержащего две посылки и одно заключение, с образцами, в качестве которых выступают 19 правильных модусов силлогизма.
За время существования силлогистики основные усилия по ее усовершенствованию были в основном сосредоточены на том, чтобы найти строгое обоснование правильным модусам. До создания математической логики самым значительным открытием в этом направлении, пожалуй, стало изобретение Эйлера, который с помощью замкнутых фигур на плоскости исследовал соотношения между «объемами» терминов силлогизма [71, c. 230]. В дальнейшем эти фигуры получили название «круги Эйлера». Они оказались предпосылкой для создания теории множеств и алгебры множеств, которые лежат в основах многих разделов современной математики. В конце XIX века английский математик Джон Венн усовершенствовал метод Эйлера. Предложенные им схематические изображения соотношений между множествами были названы диаграммами Венна [72].
Математическая логика тоже возникла из попыток усовершенствовать силлогистику. Многие исследователи (Г. Лейбниц, Дж. Буль, А. де Морган и др.) стремились к тому, чтобы использовать в рассуждениях не затруднительное сравнение с образцами, а алгебраические методы, подобные методам арифметики. Результаты их исследований легли в основу современной математической логики. Одновременно с этим начались изучение свойств множеств (Г. Кантор, Р. Дедекинд и др.), которые, также, как и числа, предполагалось использовать в качестве основных понятий математики. Однако на рубеже XIX и XX столетий были обнаружены парадоксы теории множеств14 [74]. После бурных дискуссий, в которых принимали участие виднейшие математики и философы того времени (Г. Кантор, Б. Рассел, Г. Фреге, Дж. Пеано, А. Пуанкаре и др.), большинство математиков пришли к выводу, что эффективным способом избавления от парадоксов в теории множеств и в логическом анализе является их изложение на основе теории формальных систем (ТФС). На этой теории также основана современная математическая логика [75].
В теории формальных систем (ТФС) основная роль принадлежит не объектам и соотношениям между ними, а построенным по определенным правилам строкам ничего не значащих символов (формулам). Некоторые из этих формул принимаются в определенной теории в качестве аксиом. Формулы можно преобразовывать с помощью заданных правил, которые называются правилами вывода. Формулы, полученные с помощью правил вывода, называются теоремами. Считается, что данный подход к изложению и обоснованию математических теорий, принятый многими математиками в качестве единственно возможного, является, по сути, синтаксическим подходом» [76].
«В 1941 г. в США была опубликована ставшая широко известной книга Куранта и Роббинса [77], в которой кратко была изложена алгебра множеств. Здесь авторами была высказана не приемлемая для современных логиков мысль о том, что законы алгебры множеств можно обосновать без аксиом, на основе одних только определений операций и отношений. Там же были приведены примеры такого обоснования. В работе [78] эта тема рассматривается более подробно.
Использование «самоприменимости» к допущению – множество, являющееся элементом самого себя – приводит к парадоксу Рассела.
Однако в алгебре множеств это допущение необязательно, так как в ней, в отличие от теории множеств, основным (системообразующим) является не отношение принадлежности элемента и множества (∈), а отношение включения множеств (⊆), для которого «самоприменимость» (A ⊆ A) не вызывает парадокса. При этом основные законы алгебры множеств полностью соответствуют основным законам классической логики. Это означает, что для обоснования классической логики нет необходимости в аксиомах» [52, c. 27].
«Суждение в силлогистике с математической точки зрения можно представить как отношение включения одного множества в другое (общие суждения) и отношение неравенства пересечения нескольких множеств пустому множеству (частные суждения)» [79, c. 184].
Однако «В силлогизме предусмотрено только 2 посылки и одно заключение» [80, c. 2]. В то же время для анализа системы права недостаточно двух посылок силлогизма; как отмечают правоведы В. В. Оглезнев и В. А. Суровцев «…система права является системой согласованных языковых выражений» [81, c. 180]. «… Конституция Российской Федерации состоит из множества статей, каждая из которых представляет собой либо отдельное суждение, либо совокупность суждений» [82, c. 99].
Поэтому «предлагается одним методом анализировать системы с любым числом посылок, для которых возможны более одного следствия. Тем самым мы переходим к анализу полисиллогистики» [80, c. 2].
«В качестве правил логического вывода в полисиллогистике предлагается использовать четыре закона алгебры множеств:
Правило 1: (контрапозиции): A ⊆ B равносильно ¬B ⊆ ¬A.
Правило 2: (двойного дополнения): ¬¬A равносильно A.
Правило 3: (транзитивности): если A ⊆ B и B ⊆ C, то A ⊆ С.
Правило 4: (условие непустого пересечения множеств): если ㅤα ≠ ∅, и известно, что α ⊆ A и α ⊆ B, то справедливо (A ∩ B) ≠ ∅, что на языке силлогистики означает «Некоторые A есть B» [83, c. 11].
«Кроме того, для анализа и распознавания ошибок в рассуждении при моделировании полисиллогизмов необходимо знание следующих ситуаций, которые называются коллизиями [78, c. 37—46]:
Коллизия парадокса распознается, если при выводе следствий получен результат типа A ⊆ ¬A (например, «Все прямые – не прямые»). По законам алгебры множеств это означает, что термин A в данном рассуждении соответствует пустому множеству.
Коллизия цикла возникает, если при выводе следствий получена цепочка, начинающаяся и заканчивающаяся одним и тем же литералом, например, С ⊆ B ⊆ A ⊆ С. Это означает, что все литералы, входящие в цикл, обозначают одно множество. В некоторых случаях это свидетельствует о логической ошибке (в частности, подмене терминов)» [83, c. 11].
«Предложенная методика анализа полисиллогизмов обладает существенно более широкими аналитическими возможностями по сравнению с силлогистикой: при ее использовании, помимо проверки правильности силлогизма, решаются следующие задачи [78]:
1) вывод следствий из произвольного множества посылок;
2) распознавание коллизий типа парадокса или цикла;
3) анализ корректности гипотез;
4) вычисление вариантов абдуктивных заключений» [83, c. 13].
Напомню, что такое абдуктивное заключение: «Если задано предполагаемое следствие, то {необходимо15} проверить, выводится ли это следствие из заданных посылок. В случае отрицательного результата формируются варианты посылок, добавление которых в модель рассуждений, позволяет превратить предполагаемое не выводимое следствие, в обычное следствие. Формируемые варианты таких посылок являются абдуктивными заключениями» [80, c. 3].
Таким образом, можно констатировать:
✓ Логика первого (и более высоких порядков) не подходит для формализации текстов на естественном языке вследствие чисто внутренних, логико-математических, причин.
✓ Логика (исчисление) первого порядка не удобна для использования ни юристами, ни специалистами в других отраслях знания.
✓ Логика (исчисление) первого порядка не удобна для формализации естественного языка в силу несовпадения структуры своих выражений со структурой ЕЯ-высказываний.
✓ Логика (исчисление) первого порядка просто не нужна, поскольку представление в форме атрибутивных высказываний более адекватно структуре ЕЯ-высказывания и «осуществляется почти на естественном языке без использования какой-либо сложной символики».
✓ Атрибутивные высказывания совпадают по форме (структуре) с литеральными формулами Е-анализа.
✓ Метод анализа рассуждений на основе E-структур, разработанный Б. А. Куликом в виде полисиллогистики множества атрибутивных высказываний, позволяет выразить не только всё то же самое, что и логика (исчисление) первого порядка, но и найти следствия, которые невозможно получить другими методами!
3. О представлении семантики текста
Теория права – суть наука о языке: «Теория права – это наука о языке, она изучает реальность особого рода – общение субъектов права перед лицом официальной инстанции» [19, с. 50].
Лингвист Я. Г. Тестелец пишет: «Замечательная особенность синтаксиса естественного языка заключается в том, что синтаксические связи между словоформами оказывается возможным охарактеризовать с помощью одних только бинарных (= связывающих ровно два элемента) отношений.…
Сами понятия подлежащего и сказуемого таковы, что они не требуют никакого «третьего» или «четвертого» участника. … Согласование также вовлекает ровно два элемента предложения: тот, с которым происходит согласование (например, подлежащее или определяемое существительное) и тот, который согласуется (например, сказуемое или определение)» [44, c. 71].
То, что уважаемый автор – Я. Г. Тестелец – «уловил» на интуитивном уровне, было ранее доказано (на формальном уровне!) лингвистом З. М. Шаляпиной [84]. В 1980 году З. М. Шаляпина рассмотрела систему элементарных семантических единиц, состоящую из элементарных семантических элементов и элементарных семантических отношений. Автор назвала «систему, отвечающую этим двум (очевидно, идеальным) требованиям, системой элементарных семантических единиц (СисЭлСемЕд16)» [84, c. 32].
Такая система позволяет существенно упростить семантический анализ и формализовать содержание (правовой текст) достаточно простыми средствами, а именно:
«… Во-первых, предусматриваемые в системе средства не должны дублировать друг друга и, во-вторых, эти средства должны обладать достаточной полнотой и содержательностью, чтобы с их помощью можно было описать любое интуитивно ощущаемое сходство или различие смыслов» [84, c. 31].
Как утверждает З. М. Шаляпина «Такая система доводит идею компонентного анализа значений до ее логического завершения: единицы, образующие систему СисЭлСемЕд, должны задавать настолько мелкие смысловые компоненты, чтобы внутри них уже нельзя было выделить еще более мелкие единицы смысла, которым могли бы соответствовать какие-либо реально наблюдаемые в естественном языке семантические явления» [84, c. 32].
Уместно напомнить, что идея «самых мелких смысловых единиц» была развита А. Вежбицкой, называвших такие единицы «семантическими универсалиями» [85], [86]. Первым ученым, попытавшемся построить логический анализ высказываний на основе атомарных элементов, можно назвать Г.-В. Лейбница [1, c. 444].
Принято считать, что методы вычисления по Г.-В. Лейбницу и, разумеется, подход А. Вежбицкой не приводят к однозначному единственному результату. Однако, как будет показано в дальнейшем, методика вывода от простейших, атомарных семантических универсалий могут давать логически верные результаты; об этом рассказывается в главе «7. Обсуждение результатов» настоящего исследования».
Итак, в системе элементарных семантических единиц должны быть, по определению, «… по меньшей мере два типа семантических единиц:
a) единицы, которые могут встречаться в одноэлементных семантических описаниях (т.е. каждая из которых может – хотя бы в принципе – образовывать некоторое семантическое описание, например, толкование какого-то семантически элементарного слова, сама по себе, вне связи с другими аналогичными единицами17);
b) единицы, способные связывать между собой другие единицы, устанавливая между ними в составе семантического описания те или иные отношения» [84, c. 32].
Первый тип получил название семантических элементов (СемЭл), а второй тип семантических единиц – семантических отношений (СемОт).
«… В функциональном отношении роль семантических элементов СемЭл в такой системе сближается с ролью лексики в естественном языке, роль семантических отношений СемОт – с ролью синтаксических отношений между словами в тексте. Речь при этом идет не только о формальной аналогии, но и об определенной содержательной дифференциации способов использования тех и других единиц в семантических описаниях.
В самом деле, семантические элементы, согласно их определению, отличаются от семантических отношений, в частности, тем, что они способны (хотя бы в простейших случаях) характеризовать семантику отдельных слов безотносительно к каким- либо другим семантическим единицам. Иначе говоря, они выступают в системе как основные средства выявления и фиксации смысловых сходств и различий между словами, а семантические отношения СемОт – функционируют при этом, скорее, как вспомогательные – связующие – единицы.
Учитывая, что сами смысловые сходства и различия между словами проявляются в возможности или невозможности объединять их по соответствующим признакам в единый класс, можно в качестве наиболее общего критерия отбора семантических элементов СемЭл в инвентарь системы СисЭлСемЕд выдвинуть требование, чтобы все отобранные семантические элементы СемЭл могли функционировать как обозначения более или менее широких семантических классов слов.
Соответственно получаем следующий критерий отбора семантических отношений СемОт:
Каждое СемОт, включаемое в систему СисЭлСемЕд, должно быть способно задавать некоторый более или менее широкий семантический класс синтагматических отношений между словами.
На основании сформулированного критерия в инвентарь семантических отношений СемОт системы СисЭлеСемЕд должны быть включены по меньшей мере два разных типа СемОт.
Во-первых, в этом инвентаре должно иметься хотя бы одно бинарное симметричное отношение.…
Во-вторых, в число СемОт системы СисЭлеСемЕд должны входить также бинарные несимметричные отношения, обеспечивающие интерпретацию актантных отношений зависимости. От отношений первого {симметричного18} типа они отличаются прежде всего тем, что перестановка связываемых ими единиц небезразлична для смысла получаемого выражения и необходимо различать «первый» и «второй» члены таких семантических отношений СемОт.
Здесь можно выделить два конкурирующих направления.
С позиций первого направления, семантические элементы СемЭл и семантические отношения СемОт рассматриваются как два резко разграниченных и в целом не зависящих друг от друга класса семантических единиц. Состав единиц каждого из этих двух классов определяется отдельно, так что изменения в составе СемЭл не влияют на используемый набор ㅤСемОт и наоборот. Простейшее структурное выражение в семантических системах, базирующихся на этом принципе… можно представить в виде, характерном для классической аристотелевской логики: aRb, где а и b – семантические элементы, R – отношение между ними19.
Представители второго направления, напротив, видят между семантическими элементами СемЭл и семантическими отношениями СемОт тесную взаимосвязь, которая позволяет не задавать СемОт отдельным списком, а определять их как реализации валентностей, приписываемых семантическим элементам в качестве внутренне присущего им свойства. В некотором смысле можно говорить, что здесь признается ровно одно синтагматическое отношение между семантическими элементами СемЭл: отношение заполнения элементом b определенной валентности элемента а, – так что простейшее структурное выражение сводится к виду a (bi), где а – семантический элемент, имеющий n валентностей, bi – семантический элемент, заполняющий i-ю валентность элемента a (0
Система элементарных семантических единиц СисЭлеСемЕд позволяет З. М. Шаляпиной доказать следующие два утверждения:
«УТВЕРЖДЕНИЕ 1. В системе СисЭлеСемЕд для каждого несимметричного семантического отношения СемОт существует не более одного семантического элемента СемЭл1, способного выступать в качестве первого члена данного СемОт, и не более одного семантического элемента СемЭл2, способного выступать в качестве его второго члена.
УТВЕРЖДЕНИЕ 2. В системе СисЭлеСемЕд для каждой пары семантических элементов СемЭл1 и СемЭл2 существует не более одного несимметричного семантического отношения20 СемОт такого, что СемЭл1 способен выступать в качестве первого члена этого отношения, а СемЭл2 – в качестве его второго члена» [84, c. 38].
При этом использованы следующие допущения [84, c. 40]:
«Все единицы, используемые в системе СисЭлеСемЕд, должны быть попарно независимыми в том отношении, что никакие две из них не должны иметь в своем смысловом содержании общей части (в том числе ни одна единица не должна являться частным случаем другой).
Сочетаемость семантического отношения СемОт с семантическими элементами СемЭл1 и СемЭл2 в качестве первого и второго членов отношения, соответственно, есть часть смысла отношения СемОт».
Важнейший вывод вытекает из Утверждения 1.
«А именно, на основании этого утверждения можно заключить, что в системе СисЭлеСемЕд для СемЭл и несимметричных СемОт были бы избыточны две разные номенклатуры: достаточно предусматривать специальные символы только для СемЭл, а СемОт обозначать как производные от них – например, … определяя на множестве СемЭл соответствующие парадигматические отношения21 …. Формально для обозначения СемОт в этом случае нужен ровно один символ – например, стрелка, – а его содержательная интерпретация будет зависеть от соединяемых им единиц…» [84, c. 43].
Именно этот вывод будет использован в дальнейшем при кодировании (формализации) юридического текста.
З. М. Шаляпина отмечает, что «… выбор того или другого подхода в конкретном случае связан… не с принципиальной, теоретической, стороной дела, а лишь с соображениями удобства и практической целесообразности» [84, c. 43].
Возникает вопрос – насколько применим подход З. М. Шаляпиной к (семантике) Конституции РФ?
Уместно вспомнить, как – по аналогии с математикой – правоведы В. В. Оглезнев и В. А. Суровцев задают построение аксиоматической теории права:
«Построение любой аксиоматической теории проходит через определенные стадии:
1) задается некоторое множество понятий (терминов), называемых первичными или основными;
2) выделяется некоторое подмножество высказываний о первичных понятиях, которые именуются аксиомами;
3) при помощи первичных понятий даются определения всех остальных понятий;
4) на основе аксиом и определений чисто логическим путем выводятся новые утверждения о первичных и определяемых понятиях, которые именуются теоремами данной аксиоматической теории» [20, c. 170].
И, далее: « … Определение этих понятий [норм] не может выходить за ее рамки22, поскольку это означало бы выход за рамки самой правовой системы в сферу того, что к области права в собственном смысле уже не относится. Это само по себе наталкивает на то, что положения конституции при формулировке используют ровно такие понятия, смысл которых должен быть установлен в рамках ее самой.
Но это возможно только в том случае, если сами конституционные нормы мы трактуем как систему контекстуальных определений этих основных понятий, которые порождают синтаксически непротиворечивый дискурс их употребления» [20, c. 169].
В свою очередь А. А. Петров выявил иерархические уровни в праве:
«– существует «нулевой уровень» иерархии в праве,
– существует прямая зависимость между расположением элемента правовой иерархии и значимостью данного элемента для функционирования права как системы (более значимый элемент должен располагаться на более высоком уроке в иерархии, и наоборот),
– на каждой новом уровне иерархии в праве возникает новое качество, отсутствующее у подуровней, образующих данный уровень» (эмержентность)» [93, c. 11].
Из иерархии уровней следует, что чем выше уровень, тем больше «эмерджентности» – системности. Значит, у Конституции РФ максимальный набор системных свойств, так как правовые позиции Конституции РФ являются самыми высокими, соответствующими этому «нулевому» уровню. Как отмечает А. А. Петров «Конституционный Суд РФ сформулировал и неоднократно подтвердил правовую позицию, что толкование норм более низкого уровня должно осуществляться в контексте норм более высокого уровня (Постановления Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 года №5-П, 13.03.2008 №5-П; Определения Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 №633-О-П, 04.12.2007 №966-О-П)» [93, c. 25].