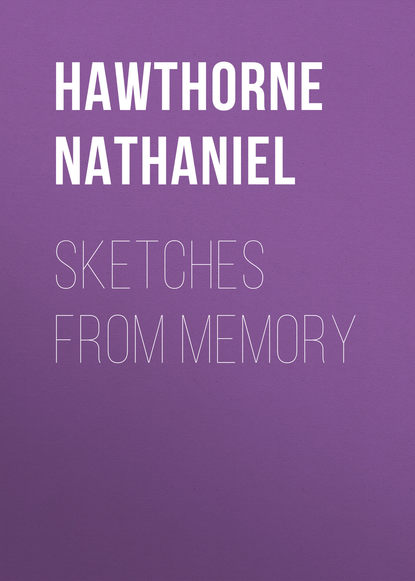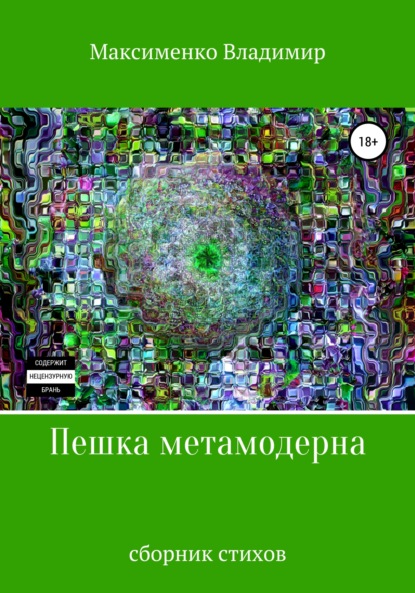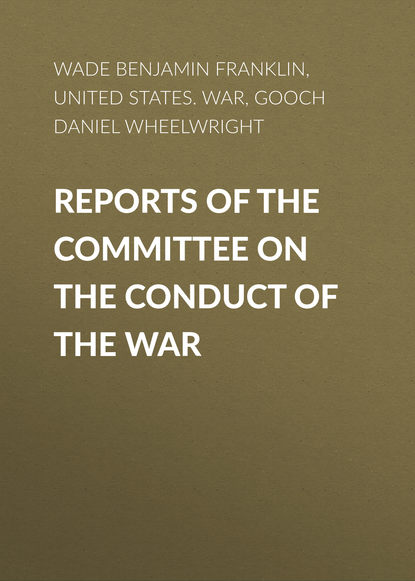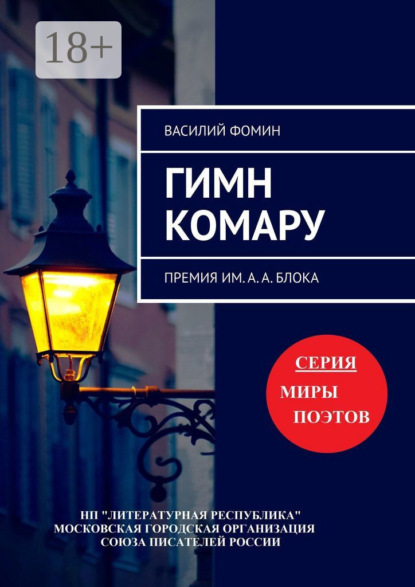Конституция РФ как источник аксиом частного права. Опыт логического вычисления
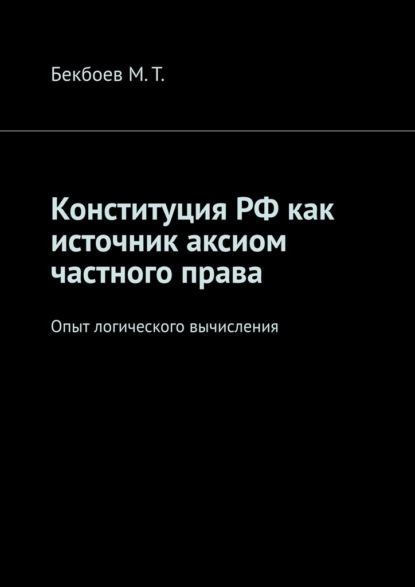
- -
- 100%
- +
Таким образом, правовые объекты, о которых говорится в Конституции РФ, можно и нужно отнести к семантическим концептам самого высокого уровня, иными словами, к так называемым семантическим элементам СемЭл в терминологии З. М. Шаляпиной, они же – «семантические универсалии» в терминах А. Вежбицкой. И, далее, согласно З. М. Шаляпиной, семантические отношения между ними – первичными семантическими универсалиями Конституции РФ – можно обозначить одним символом, кодирующим парадигматические отношения23 – например, стрелкой.
Из этого следует, что для выражения семантической (логической) структуры правового текста вполне достаточно модели атрибутивного высказывания.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о наличии (?) синонимов в тексте Конституции РФ. Если таковые – синонимы – есть в тексте Конституции РФ, то это может поставить под сомнение Утверждение 1 и Утверждение 2 о единственности сочетаний (пар) семантических элементов СемЭл и единственности семантического отношения СемОт между парами семантических элементов СемЭлi, j (i ≠ j).
Однако используемый аппарат Е-логики позволяет выявить такие синонимы (если они есть) и исключить из рассмотрения повторы одного и того же понятия24.
С другой стороны, согласно правилам языкового толкования, в тексте нормативного акта и, значит, в тексте Конституции РФ нельзя придавать разным терминам одно и то же значение, и, кроме того, законодатель не допускает излишних слов [94, c. 142].
4. Логические схемы суждений. Атрибутивные высказывания
«… Логика неразрывно связана с языком, коль скоро мы пользуемся им, чтобы облекать свои мысли в некоторую форму и иметь возможность передавать их другим людям [65, c. 19].
«… Мысль не может быть выражена в языке иначе, как в форме предложения» [95, c. 16].
«Именно знаковая природа языка делает его универсально применимым для представления знаний о любой реальности и о любом ее фрагменте. … Первая зацепка, которую мы обнаруживаем, заключается в том, что язык как абстрактная знаковая система устроен иерархически.…
Для представления иерархической структуры выражений языка понадобится синтаксическая операция, позволяющая на самом абстрактном уровне из более простых выражений языка строить более сложные. Можно показать, что, с математической точки зрения, достаточно ограничиться всего лишь одной бинарной синтаксической операцией» [96, c. 274—275].
Об иерархичности структуры языка пишет и И. Е. Воронина [97, c. 15].
«Зависимость синтаксиса от лексических значений является очевидным и общепризнанным фактом» [98, c. 110]. С учетом того, что «все словоформы одного слова имеют одно и то же лексическое значение» [98, c. 123], это позволяет от синтаксиса – т.е. от высказывания – перейти к его содержанию (=логической форме).
«Конечная цель восприятия любого текста человеком – не синтаксическая форма языка и все индивидуальные, национальные особенности этой формы, а то, что за ней скрывается – тот универсальный семантический смысл, который несет эта грамматическая форма, выливающаяся в соответствующую логическую форму» [99, c. 73].
С точки зрения эпистемологии и коммуникации можно обосновать двучленную структуру предложения следующим образом:
«Признаки в объективной действительности проявляться отдельно от субстанций не могут, ибо они отдельно не существуют. Отсюда закономерная двучленность психологической коммуникации, которая является единством субстанции и ее неотъемлемого, неотчуждаемого признака.
Отсюда же и классический тип членораздельного предложения, который изначально, исходно является двусоставным, включающим в себя подлежащее, выраженное субстантивом в именительном падеже, обозначающим субстанцию, и согласующееся либо соотнесенное с ним сказуемое, представленное соответствующей глагольной формой, обозначающей признак-действие» [100, c. 17].
Известный лингвист Г. А. Золотова отмечает «… В синтаксисе нет конструкций, не предназначенных участвовать тем или иным способом в процессе коммуникации, а коммуникативная функция речи осуществляется не иначе как посредством синтаксических конструкций – носителей выражаемого содержания25» [101, c. 4].
«Акт мышления, выражаемый предложением, всегда двучленен: о чем-то сообщается что-то, некоторому субъекту приписывается некий предикативный признак. Субъекту и предикату мысли-суждения в структуре предложения соответствуют, как правило, два его организующих центра, или два „главных члена“, обозначающих носителя предикативного признака и предицируемый признак. Двучленность, двусоставность предложения, таким образом, – его необходимый признак постольку, поскольку предложение служит выражением акта мышления. Этот признак является общим для всех предложений» [101, c. 24].
«Подлежащее занимает высший (первый) ранг на этой шкале по сравнению со всеми остальными актантами предиката, и его значение, в первом приближении, следующее:
ПОДЛЕЖАЩЕЕ: синтаксическая позиция, обозначающая наиболее выделенного, наиболее важного и наиболее обязательного участника события» [102, c. 139].
«Подлежащее – это имя предмета, а сказуемое – имя его признака. Как признак предмета зависит от предмета, так и сказуемое зависит от подлежащего. Говорящий сначала определяет предмет, о котором он хочет сделать сообщение, а уже потом принимает решение о признаке этого предмета, который (признак) он желает подчеркнуть. Соответственно он сначала выбирает имя предмета, а затем – имя признака. Естественно, что имя признака подчиняется имени предмета. Оно согласуется с ним лексически (семантически) и грамматически» [98, c. 151—152].
«Субъект предложения – это главный член предложения, обозначающий производителя или носителя приписываемого ему предикативного признака.
Под предикативным признаком понимается любая информация о субъекте предложения. В связи с этим предикат обозначает признак, автономно не существующий вне субъекта предложения. … Одним из аспектов предикативного признака является его сопряженная зависимость от субъекта.
Типы предикатов, их способы выражения и формальные границы зависят от объема выражаемого предикативного признака. С этой точки зрения выделяются простые глагольные предикаты, обозначаемые самостоятельно употребляемыми глаголами (примеры очевидны), и составные предикаты, обозначаемые сочетанием имен или инфинитива со связками и вспомогательными глаголами, обладающими предикативными категориями. Круг таких связок и вспомогательных слов определяется тем, что они выражают не самостоятельные компоненты событий, а различный характер проявления полнозначного предиката» [103, c. 183—185].
Семантика любого языка – это отношение между признаками, включенных в предложение тем или иным синтаксическим способом, и объектами внешнего мира [104, c. 17].
«Усвоение языка оказывается одновременно и усвоением общечеловеческой, не зависящей от конкретных языков логики. Без нее, как и без грамматики, нет, в сущности, владения языком» [105, c. 9].
«Поскольку источник науки логики – материальный мир и естественный язык, следовательно в языке уже изначально заложена логика, т.е. язык является первичным по отношению к логике» [69, c. 17].
«По значению, какое для понимания суждения имеет отношение между объемами субъекта и предиката, суждения делятся на две группы.
К первой принадлежат суждения об отношениях (реляционные суждения) и суждения о принадлежности свойства26 предмету (атрибутивные суждения)» [64, c. 32—33].
Практически все учебники логики [61, c. 48], [106, c. 49], [62, c. 64], [107, c. 123], [108, c. 87—88], а также учебное пособие по языкознанию [87, c. 380] описывают атрибутивное суждение в виде:
(Квантор) Субъект – связка – Предикат ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (4.1)
Отмечается, что реляционное суждение может быть приведено к атрибутивному (категорическому) [62, c. 66], [107, c. 144], [82, c. 123].
«Атрибутивными (от лат. «atribut» – свойство) называются высказывания о наличии или отсутствии некоторого свойства у определенного класса предметов.
В составе атрибутивных высказываний выделяют четыре структурных элемента:
1) Субъект (логическое подлежащее) – термин, обозначающий те предметы, о которых в высказывании нечто утверждается или отрицается.
2) Предикат (логическое сказуемое) – термин, обозначающий свойство, наличие которого утверждается или отрицается у этих предметов.
3) Кванторное (количественное) слово – указывает, о каком количестве предметов идет речь. Слова «все», «каждый», «ни один» выражают всеобщность приписываемого свойства относительно данного класса предметов. Слова «некоторые», «по крайне мере один», «существует» выражают существование в данном классе предметов с указанным свойством.
4) Связка – слово, которое утверждает или отрицает наличие некоторого свойства у субъекта. Связки делятся на утвердительные («есть, «является», «суть») и отрицательные («не есть», «не является», «не суть»)» [63, c. 32].
«Атрибутивному суждению может быть дана объемная интерпретация. В этом случае оно рассматривается не как связь между предметом и его признаком, а как включение объема одного понятия в объем другого или исключение из него. Например, в суждении «Россия (S) – суверенное государство (Р)» субъект (понятие «Россия») включается в объем предиката (понятие «суверенное государство») … В суждении «Никто из судей (S) не вправе воздержаться от голосования (Р субъект «судьи») исключается из объема предиката («лица, имеющие право воздержаться от голосования) … Круговые схемы позволяют наглядно представить отношение меж терминами суждения, они широко используются в анализе умозаключений, построенных из атрибутивных суждений» [62, c. 65]. Об этом же пишется в [63, c. 34], [109, c. 15].
Автор теории Е-структур также начинает обоснование своего подхода с круговых схем [109, c. 13—15]. Главный вклад в развитие этих схем для анализа сделал Л. Эйлер [71, c. 220]; но Б. А. Кулик делает вывод, что этих схем (диаграмм Эйлера) недостаточно для анализа сложных выражений и подчеркивает: «Инструмент анализа многих языковых явлений (в том числе метафор и алогизмов) должен быть на порядок строже и четче, чем само анализируемое явление. Отсюда ясно, что в основе логики должна лежать строгая математическая система, а не просто искусственный язык, в котором алгебраические понятия изъяты из обращения» [110, c. 77].
Для придания праву математической однозначности и предсказуемости право должно быть формализовано и формализовано именно так, как это принято в математике. Формализация в математике – это не прихоть отдельных ученых. Известный советский математик А. Г. Драгалин отмечает:
«… Своеобразие объектов исследования в математике состоит, прежде всего, в том, что они, объекты, обычно не существуют в привычном смысле …, и большая их часть не имеет аналога в окружающей нас действительности.
Такое положение дел требует строго регламентировать способы рассуждения о математических объектах. Типичное… математическое рассуждение зачастую неверифицируемо, не проверяемо экспериментально, так что неосторожное или приблизительное рассуждение легко может привести к нелепым результатам или даже к противоречиям. Таким образом, математические рассуждения следует доказывать по точным правилам. Математика есть дедуктивная наука, и не потому, что математики – особо строгие и дотошные люди, а в силу необходимости, ввиду особого онтологического27 статуса своих объектов…» [73, c. 329].
В еще большей степени это высказывание применимо к праву, так как, хотя математика и влияет на жизнь людей, но – опосредовано, – в то время как право непосредственно лишает свободы или имущества.
Отсюда следует, что алгебра множеств должна быть той математической структурой, на которой должен основываться логический анализ – особенно правовых текстов.
«В алгебре множеств носителем системы являются множества (или классы), для которых определены основные операции (дополнение, пересечение и объединение множеств) и отношения (равенство, включение). Эти понятия алгебры множеств во многом соответствуют семантике естественного языка. В частности, если рассматривать структуру простого предложения на естественном языке (подлежащее + сказуемое с управляемыми дополнениями и обстоятельствами), то нетрудно увидеть связь этой структуры с отношением включения алгебры множеств.
Нетрудно видеть, что в этих и во многих других повествовательных предложениях естественного языка между группой подлежащего и группой сказуемого существует отношение, которое по свойствам соответствует отношению включения алгебры множеств» [110, c. 74].
Почему логики (и математики) В. М. Васин, Б. А. Кулик и другие настаивают на использовании именно отношения ВКЛЮЧЕНИЯ для анализа синтаксической связи между членами предложения?
Как упоминалось ранее – «в современной математике пока что не предложено однозначного определения структурных свойств отношения принадлежности» [109, c. 14]. В то же время структурные свойства отношения включения в современной математике определены достаточно четко и однозначно [109, c. 15].
Повторюсь, атрибутивные суждения допускают анализ при помощи круговых схем, диаграмм Эйлера. «Однако использование диаграмм Эйлера становится весьма неэффективным при анализе систем из трех и более множеств. А именно такие системы приходится часто использовать при анализе даже сравнительно простых рассуждений. Для устранения этих трудностей предлагается другой математический аппарат, в котором совмещаются законы алгебры множеств с аналитическими возможностями теории графов.
Можно назвать новую математическую структуру, в которой сочетаются законы алгебры множеств и аналитические возможности теории графов, логической структурой Эйлера
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Названия «Е-анализ», «Е-программа», «Е-формализация», «Е-формула», «Е-логика» придуманы автором настоящей работы. Такие термины в основополагающей работе Б. А. Кулика «Логика естественных рассуждений», 2001 г., [109] не встречаются. Предполагалось использовать словосочетания «ЕР-анализ, ЕР-программа и ЕР-формализация» (и тому подобное), так как первоисточник от 2001 года посвящен именно естественным рассуждениям; указанные термины можно воспринимать как «Естественных рассуждений анализ», «Естественного рассуждения программа» и «Естественного рассуждения формализация» и тому подобное, но для благозвучия буква «Р» убирается и остается «Е-анализ, Е-программа и Е-формализация», «Е-формула», «Е-логика».
2
К «практической» части исследования относятся главы 6, 7 и далее – основной вклад автора, претендующий на новизну
3
См. ранее, варианты понимания, указанные М. К. Тимофеевой [24, с. 23].
4
Кроме художественного текста и поэтического.
5
Прагматика правового текста относится к работам традиционных правоведов и остается за рамками настоящего исследования
6
См. варианты понимания, указанные М. К. Тимофеевой [24, с. 23].
7
СЕС – средне-европейский стандарт, см. главу 6 подраздел 6.2 настоящей работы.
8
В советское время ИТМО расшифровывалось как «Институт точной механики и оптики».
9
Вставка моя (БМТ).
10
Выделение моё (БМТ).
11
Попова З. Д. Минимальные и расширенные структурные схемы простого предложения как однопорядковые знаки пропозитивных концептов // Традиционное и новое в русской грамматике: Сборник статей памяти В. А. Белошапковой. М.: Индрик, 2001, с. 226. Цитирую по [47, с. 9—10].
12
Выделение моё (БМТ).
13
Выделение моё. Кроме того, создатель Е-анализа Б. А. Кулик обосновывает и опирается именно на отношение ВКЛЮЧЕНИЯ, как наиболее строгий и математически выверенный способ формализации высказываний. Подробно об этом далее в разделе 2.2 и главе 4 настоящей работы (БМТ).
14
Помимо известных парадоксов теории множеств, теория множеств Цермело – Френкеля неразрешима [73, с. 501].
15
Вставка моя (БМТ).
16
Здесь и далее аббревиатура моя, почти совпадающая с оригиальной в цитируемой статье, но немного расширенная и переформатированная – для лучшего понимания (БМТ).
17
Лингвист Р. А. Будагов называет это «внутренней формой слова» [87, с. 80—81]. Аналогично у А. В. Вдовиченко «… не грамматика порождает материал, а сам материал содержит в себе грамматику» [88, с. 177].
18
Вставка моя (БМТ).
19
Например, «Все А есть В» (прим. БМТ).
20
Выделение моё (БМТ).
21
Например, как сделано в Толково-комбинаторном словаре (ТКС) в части существительных: «… в подобном словаре должны быть исчерпывающим и притом достаточно формальным образом отражены по возможности все семантические и сочетаемостные соотношения данного слова с другими словами. Именно эту цель и преследует ТКС» – см. Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь русского языка: Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. 2-е изд., испр., М.: Издательский Дом ЯСК, 2016, с. 86. Как показано в разделе 2.2 настоящего исследования в рамках Е-анализа этому «парадигматическому отношению» соответствует отношение включения.
22
За рамки Конституции РФ (прим. мое, БМТ).
23
Они же – отношение включения.
24
Что и составляет «коллизию цикла» – см. раздел 2.2 настоящей работы. Коллизия цикла легко распознается Е-программой и может быть устранена методом, указанным там же.
25
Выделение моё (БМТ).
26
«Понимание свойств как совокупностей индивидов, а отношений как совокупностей упорядоченных наборов индивидов, введённое современной логикой, было величайшим достижением» [39, с. 175].
27
Выделение моё, из последующего будет ясно – почему (БМТ).