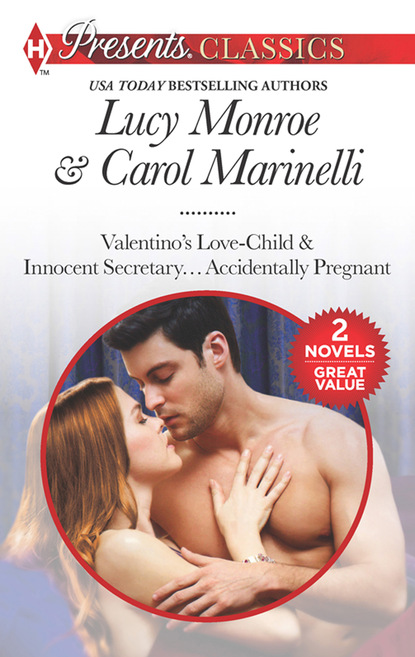Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика
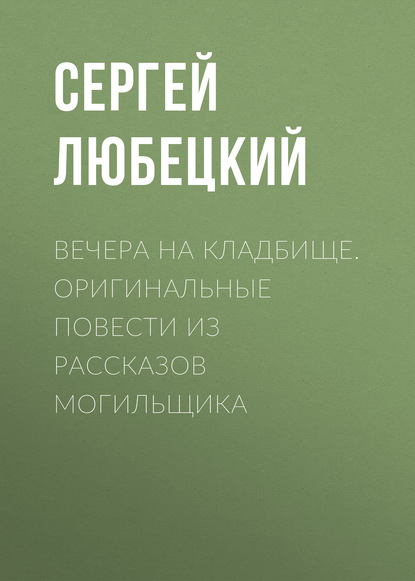
- -
- 100%
- +
Наступили святки. Обширный двор Гура Филатьича загораживался возами с хлебом, дровами, свининой, солониной и другими жизненными потребностями. Зима стояла тогда холодная, трескучая. На всех Московских улицах кипела жизнь в полном блеске, разогретая движением. Из Питера шли обозы с сахаром и кофе; из Ярославля тянулись подводы с Волжской белорыбицей. К Серпуховской заставе подползали по морозцу южные продукты, тащимые усталыми животинами. А кто не знает, что за суета и суматоха происходит в то время у наших застав: сани, высоко нагруженные, будто башнями, скрипят и визжат полозьями как поросята; снег, скованный морозом, хрустит под лаптями мужичков, пляшущих на холоде па собственного сочинения; лошади, заиндевелые, точно выштукатуренные или набелённые, подобно купчихам, фыркают пренеучтиво; хозяева их со скомканными бородами, будто держащие в зубах нерасчёсанную банную мочалку, облепленную сосульками, как леденцом, шумящих у опущенного пред ними шлагбаума, ожидая пропуска; другие резвою иноходью бегут в ближний кабак, а иные в трактир, который таким улыбчивым и вместе коварным взором, т. е. раззолоченною вывескою, смотрит на них, призывая к себе молчанием, куда многие из них носят оброк свой, унося оттуда головоломное веселье. Казаки с нагайками в руках силятся уничтожить тесноту, а хожалые, потомки древних ярыжек, также озяблые и сгорбленные, как индийские петухи, греются в ней. Один только заставный писарь, Его Благородие, с красным воротником и носом, безучастливо и надменно, подобно египетскому паше, постаивает снаружи кордегардии и потирает руки. Он знает, что мимо него проползёт беззвучно один только червяк, что с него только взять нечего, потому что он голый.
Если не такая, то похожая на эту суматоха, была и у Гура Филатьича на дворе и в доме: крикливые бабы обтирали пыль с полок и стен, мыли полы, крыльцо с перилами и посуду, стирали белье, таскали кульки с закусками, расстанавливали по комнатам стулья. Матрёна Андроньевна, как неугомонная хозяйка, сама сеяла муку и верным глазом ревизовала кадки свои с мочеными яблоками, брусникою, огурцами и огурчиками. Агаша кроила и шила себе обновы. Гур Филатьич не суетился, подобно челядинцам своим, но был угрюм и неприступен: карман его худел, а кованые сундуки починать он не хотел. Артемий в городе наблюдал за его доходами.
– А что, батенька, Гур Филатьич, ведь нам, изволишь видеть, нада-ть, я чаю, хоть один раз во все святки задать пир у себя в доме; ведь сам знаешь, у нас дочь на возрасты пожалуй люди скажут, что она какая нибудь браковка, что мы утаиваем её ото всех! – говорила Матрёна Андроньевна мужу своему.
– Про это я и сам знаю, – отвечал Гур Филатьич, – пир не пир, а угощенье заправское необходимо устроить, понимаешь? Если поднять пируху богатой рукой, то пожалуй накличешь таких женихов, что растормошат всё нажитое, понимаешь? –
– Всё не всё, батька, – возразила Матрёна Андроньевна: – а половинку, изволишь видеть, можно придать за Агашей: ведь она у нас одна! Иванушке ещё останется, да он и сам наживёт.
– Молчи, твоё дело бабье, неразумное, понимаешь! – вскрикнул Гур Филатьич, сдвинув грозно брови свои. – Я еще не считал у тебя зубов во рту, а ты перечла моё добро, что хочешь уж и делить его; мне и так от ваших затей приходится лезть в петлю, понимаешь!
– Эх, батька, Гур Филатыч, ну что Бога гневишь! – завопила было Матрёна Андроньевна; но Гур Филатьич так громко притопнул на неё ногою, что она тотчас убралась в свой апартамент – в кухню.
Однако не смотря на то, когда-то в добрый час расхмелья Гура Филатьича, условлено было морду нежными супругами устроить потешный вечер о святках и пригласить на него людей всякого чина, звания и ранга: молодцев и девиц петь подблюдные песни, а женихов играть в Фанты, чтоб, дескать, Агаше не было долгого сидения в девках, и самим родителям можно бы было учинить выбор между многими. Затейливая мысль!
* * *Признайтесь сами себе, рыцари и рыцарши виста, бостона и кадрили (я разумею здесь молодых людей, а не инвалидов забав), не принесла ли бы вам чистейшего, насладительного удовольствия игра в Фанты? Будто сердце не умеет так же сладостно биться и трепетать под мотивы унывных святочных песен, как и под звучные мелодии танцевальных променадов? В современных нам забавах мы видим одну теорию любви, одно несмелое подпрыгиванье друг к другу и поспешную ретираду, – всё это отпечаток какого-то непостоянства, хотя милого, красивого рисования групп, но всё-таки ветреного, скорозабываемого, мотылькового порханья; но в потехах старины настоящая практика любви. Ну, посудите сами, какой выгодный случай во время игры в Фанты вковаться в уста любимого предмета и спить с них медлительный, но гармонический поцелуй, даже в присутствии сердитых маменек, ревнивых мужей и ропщущих отцов? Таковы права Фантов!
Вот, например, хоронят золото и чисто серебро. Послушайте, какие напевы; вот содержание их: молодица в разлуке с милым; она смотрит на него из косящетого окошечка и разливается как горлинка одинокая в кручине своей: «Я у батюшки в терему, я у матушки в высоте», – и голос её льётся прямо в сердце, и в руках своих вы ощущаете нежное прикосновение ручки её: с неё скатывается перстень, вы думаете, что схоронится у вас? – Нет, только одно пожатие; не вы счастливец, не другой, не третий, а тот, кто условился передать ей на обмен свернутую розовую бумажку. – Угадайте ж, у кого схоронено золото? Не завидуйте, не тот, на кого вы думаете, спрятал сокровище свое в лучшую сокровищницу жизни – в сердце – ему как и вам помазали только по губам; не угадали, но только заблудились вы в прогулке глазами по женским лабиринтам, давайте Фант и ступайте опять искать золото, только не находите медяницы – обманщицы.
Декорация переменяется: играющие особы свились венком, тут молодицы, – цветы, пышно раскинувшие уборы свои под тенью мужчин, стройных как тополи, тут и девы-бутоны, не смело развивающие почки красот своих, тут и розы наслаждений, и нелюбимый чертополох, отпугивающий взоры, все это вперемежку, разноцветный букет. Красавицы заунывно восклицают: ох болит! – болит сердце лилеи по чахлом репейнике или какая-нибудь ожога-крапива привилась к полыни, которая наоборот жалобится тою же болью; любовная эпидемия пуще похмелья кружит головы и щемит сердца, заветные имена цветов произносятся стыдливо, будто ненарочно; другие прелестницы в раздумье: кого бы выбрать лекарством для изцеления боли, но так осторожно, чтоб не высказать тайны своей; выкликается шиповник, да и вправду, ведь он иглист: как не занозить им сердца!
Вскоре после того вдруг заскачет любовная почта по ухабам всех больших дорог с разными транспортами; тут часто и столица сторонится какому-нибудь Звенигороду или Серпухову; тут прогоны самые дешёвые: с каждой версты по поцелую, а на эту монету невидимую, впрочем, часто слышимую и мило осязаемую, не установлена еще цена и проба: часто достается она ни по чем, расточается без, счета, отдается сдачи мелочью, но часто нельзя ее достать ни за какие жертвы. Увы!..
Когда все почты перескачут, а у играющих оборвутся перепутанные постромки терпения, раздастся хор подблюдных песен: сей, мати, мучицу, или: как у Спаса в Чигасах за Яузою, живут мужики-то все богатые, гребут лопатой серебро; кому кольцо, тому добро – и слава! – и ступай направо с своей суженой к налою в этот же и год непременно, и будешь ты богат и таланлив[7].
Кому: кузнец скуёт злат венец, тот также готовь обручальный перстень, а невеста набивай сундуки приданым и расплетай косу шелковистую. Иным вправду выдается песня, как сон в руку, только со златым венцом сковывается им бич железный, или просто сплетается кнут ременный и скручиваются вожжи.
Проказницы из девушек тайком выбегают за ворота подслушивать голоса, с какой стороны послышатся-раздадутся они, – оттуда будут к ним и женихи; но если случится, что в то время залает собака издали, это также идет к счёту: красавицы в восторге не разбирают человеческий ли это тенор, или собачий бас: он только слышат роковой голос – и восклицают: вот наши женихи! Ворчуньи-матушки, сидящие как трутни, как простые зрители в фанточных спектаклях, скучают продолжительною игрой, и поднимаются в нетерпении с мест своих; но как можно! Молодёжь хором заропщет: погодите, погодите, ещё мост не мостили, еще не разыгрывали фантов. И вот, по закону игры, вдруг выступает какой нибудь прелестный нищий в белом платьице, ловко перетянутом газовою лентой; ну, как не подать ему милостыню? Многие почитают за милостыню себя, если только принимают с губ их подаяние. Иной проказник кладёт только один рубль – но всё копеечками, а если случится грошевик, то просит сдачи, а если хорошенький разносчик попотчевает его, положить хоть яблоками, он берёт один десяток по яблоку и каждое яблоко кажется ему за сахарный ананас. Особенно при разыгрывании фантов с медоточивых уст бывает сыпля, запой поцелуев; за то святки бывают однажды в год, как май улыбчивый, как юность в жизни. Вот каковы деспотические законы игры в фанты. Старые брюзги, ревнивые мужья при всех свидетелях видят, как женки их по вызову выходят к молодцам за дверь; чуткие уши их слышат отзывы поцелуев и они молча вздрагивают, как лошади при пушечном залпе, пыхтят, отдуваются, как будто сидя в жаркой ванне; спутницы жизни их идут, неся еще на щеках своих пламень и рдянец жарких уст. Да здравствуют фанты и в могиле своей! да воскреснут и обессмертятся они!
Такие же проделки были и у Гура Филатьича в раздольный Васильев вечер.
Между купцами, наехавшими к нему с женками, дочками, сыновьями и кумовьями, отмечивался некто Федул Панкратьевич, тучный винный откупщик и, разумеется уже богатый вдовец, пожилой и скупой, как сама судьба для несчастных. В этом же зверинце был еще из благородного ранга Анисим Михеевич, секретарь какой-то Палаты, старый, длинный и худощавый старик, воплощённая ябеда, чернильный обливанец с красным носом, будто бы обкапанным сургучом, в узком фраке с длинными фалдами, зато с широкими карманами; пышно расчёсанный парик его покрывал подъяческую голову, как зонтом; на замечательном носу его лепились страшные очки, и вся длинная фигура его при каждом движении, особенно при поклонах, съёживалась в какую-то мудрёную китайскую букву.
Эти гости приглашены были к Гуру Филатьичу с целью как ниже сего увидим. После разных закусок и попоек начались игрища; Анисим Михеевич присоединился к молодежи и в то время когда Федул Панкратьевич с Гуром Филатьичем вели речь о промышленностях, о ходе и упадке торговли, об ликерах и наливках, и многие из уважения к ним слушали их с глубоким вниманием.
Между тем Анисим Михеевич проходил все степени фанточной игры и был в полном смысле жрецом её и мучил со смеху товарищей своих в забавах, что называется, до надрыва животов. Крючки острот его задевали многих.
К довершению удовольствия веселящейся беседы, ему досталось быть статуей и вот подмяли ходули его на цыпочки, сгорбили спину, подпёрли молодца одной его же рукой под бок, а другую подняли коромыслом, как будто готовя его пустить отхватывать голубца и начали все потешаться над Его Благородием, кто как хотел и умел. Анисим Михеевич умильно поглядывал на Агашу скользкими глазками своими, из угождения ей всячески любезничал и почитал ещё себе за особенную честь, что успел так распотешить невзыскательную публику. Даже девицы толклись около него хороводами. Артемий же был робок, как и всегда; с чувством произносил свое: ох болит по незабудке, которой назвалась Агаша и, потупя взоры, передавал горящую курилку соседу, чтоб она не выказала на лице его отражением своим волнения души. «Смотри, пожалуй, какой скромница приказчик-то у Гура Филатьича, водой не замутить его», – говорили старушки, издали наблюдая игру между антрактами пересудов и мысленно проча за него откормленных дочек своих. Некоторые из них проникали застенчивость юноши, а так как только одна любовь близорука, находили они в Агаше множество недостатков: младенческая резвость её была называема бесстыдством, а пригожее личико и нарядное платьице – цирюльническою вывеской, Все это, разумеется, было передаваемо завистливыми матушками – и провесными дочками их – друг другу не вслух: Агаша от всех встречала приветливые улыбки.
Наконец досталось Артемию, по жребию вынутого фанта, быть оракулом; его посадили в отдаленный угол комнаты и покрыли белым полотном. Робкий юноша смешался еще более, но к счастью замешательство его было завешано. Многим спрашивавшим его, прорицал он светлую и пасмурную будущность, не выслушав их, чтоб только скорее развязаться с ними; но каково ж было его изумление и досада, когда полотно зашевелилось и из-за занавеса его показалось вострое, клыкастое рыло Анисима Михеевича!. «Слушай, брат Артемоша, – шепнул он, крепко сжимая его руку: – я донельзя уязвлен прелестями Агафьи Гуровны – помоги мне снискать… понимаешь?.. магарыч за мной!..» – И вымолвив сие, Анисим Михеевич облил лицо своё зияющей улыбкой – пожал ему руку ещё раз и удалился. Артемий так был поражён его признанием, что не нашелся что и отвечать ему сидя истуканом на стуле.
Дошла очередь и до Агаши: тихо заколыхалось полотно и явилась она пред милым своим с обвивом роз стыдливости на щеках; по закону игры стала она пред ним на колени, и начали они молча, но откровенно, красноречиво, высказывать друг другу души свои. Наконец настало время признания: Артемий не утерпел и поцеловал на груди её крест, мысленно клянясь ей в вечной любви; она поняла его, рука её стиснула его руку, щека прижалась к щеке – и слезы их слились.
Признательность была понята любовниками в безмолвии; звонкие голоса пробудили их.
Вечер по обыкновению был шумен: хаос забав всякого рода был заключением его. Любовники торжествовали втайне души своей; только испугал их значительный взор Федула Панкратьича, жадно брошенный на Агашу при прощании с нею – и шёпот родителей её с богатым откупщиком. Так кончился старый год.
* * *Отставала лебедушка от стада лебединого,Приставам лебедушка ко стаду серых гусей.Свадебная песня.Гроб – та же колыбель для отдыха.На том свете много вакансий: туда попадают без протекций.Мысли вслух.После блаженного вечера, в грудь Артемия заронила искорку свою надежда-невидимка с радужного крылышка. В пылу счастья своего он забыл об Анисиме Михеевиче с претензиями его. Свободно вздохнул он. Между любовниками было уже нисколько тайно условленных свиданий, во время которых Агаша со всем простосердечием своим клялась ему, что кроме него никто не составит её счастья; что она готова в этом признаться отцу, матери и вымолить у них родительское благословение на соединение с ним. Артемий весь был в восхищении: все чувства его, проникнутые нежностью, расплавились в слезы и он плакал так весело, так усладительно; червь – совесть – не глодал уже души его. Агаша сама упрашивала согласия его на общее счастье. Чем же он виноват? Разве он обольстил её какими-нибудь посулами? Он чистосердечно признался ей, что всё богатство его будешь состоять только в одном сокровище – в любви её. Она повторяла слова его под диктовку сердца, – почки цветов блаженства их наливались питательной росой надежды с каждым днём более и более. Сердца их бились одинаким размером, поцелуи сливались, клятвы сыпались – и смешили судьбу – коварную, таинственную.
С некоторого времени Гур Филатьич заключил с супругою своею какой-то наступательный и оборонительный союз против дочери своей, неразгаданный для неё; шёпот их, удивлявший её, происходил у них с глазу на глаз; случалось иногда, что во время тайного совещания, Гур Филатьич возносил свой голос, – и потом опять всё утихало. Члены расходились по своим местам, но протокол судьбы дочери их не был еще ни чем подписан: ни слезами, ни кровью.
В одно время в полутёмном чулане, где Матрёна Андроньевна сама набивала пухом огромную двухспальную перину, а Гур Филатьич сидел против неё на кованом сундуке, вдруг кто-то постучался к ним в замкнутую дверь костлявою рукою.
Супруги встрепенулись как заговорщики, однако спросили нарушителя уединения своего:
– Это я, батюшка Гур Филатьич и Матрёна Андроньевна, я, Авдеевна! – произнесло какое-то существо писклявым голосом.
– Что она пришла на гроб, что ли, собирать себе? – с неудовольствием произнёс Гур Филатьич.
– А, это Авдеевна! – радостно воскликнула Матрёна Андроньевна. – Впустим ее, батька, ведь я её усылала опрашивать и выведывать про наших женихов.
Немного погодя дверь отворилась и в отверстие её всунулась миниатюрная старушка с вострым подбородком, в китайчатой шубке и с костылем в руках; взошедши, помолилась она как водится в передний угол и чинно раскланялась с хозяевами.
– Ну, что новенького? Да сядь, сядь, ведь ты чай устала! – говорила Матрёна Аидроньевна, подставляя ей небольшую треножную скамейку, а сама поместилась на опрокинутую кадку. Гур Филатьич не нарушал позиции сидепия своего на сундуке и серьёзного вида.
Старушка подкатилась к месту отдохновения, – обтёрла рукою рот, откашлялась, – (это была прелюдия) и начала:
…Ну, отцы, побегать-то я побегала, а пообедать-то не пообедала; уж знать за грехи мои досталось мне натерпеться и холоду и голоду. Помните, опомнясь вышла я уж под вечер с вашего двора и направила путь в Сущёво под Вески; дорога не близкая, погода крутила такая, что и рассказать нельзя. Ветер заметал дорогу снегом, словно как помелом, а встречных ему совсем с ног сбивал. Однако я дотащилась-таки кое-как до дому того приказного человека, у женишка-тo вашего; уж и дом же у него: чуть ветер дунет посильнее, под мышкой своей занесёт его невесть куда. Вот как подошла я к нему – и давай стучаться в оконые ставни, приговаривая: кормилицы-батюшки, пустите, дескать, на ночку бедную, промокшую до костей старушку, а вам дескать пошлёт Господь на мою сиротскую долю. Верите ли, отцы, ведь насилу впустили меня в ворота, насилу дали для успокоения грешного тела половицу в сенях, а поужинать – хоть бы обгорелую корочку хлебца сунули. А я между тем все выведала да высмотрела: у Анисима Михеевича живёт какая-то, изволите видеть, рабочая женщина, да знать между ими есть грехи; она в то время стирала в корыте бельё и мыла ему голову всякими укорами: вишь ты, дескать какой окаянный старичишка кряхтун, думаешь, не знаю, што ли, я как третьёго днясь заслал ты сваху к Таганскому купцу сватать за себя, седого детину, дочь его, а вспомни-ка, греховодник, сколько у нас, ну сам знаешь? Федотка, что охотою в солдаты пошёл, Андрюшка, что на чугунных заводах живёт, Акулька… нет, виновата, как бишь назвала она дочушку?.. ну да не в том дело, – говорила Авдеевна, – а вот в чём, что Анисим Михеевич, сидя в бумажном колпаке своем и починивая туфлю, не вымолвил ни слова в ответ ей, только что покряхтывал, да обматывал чёрной ниткой очки свои, а она-то уж его: какой ты батя детям, что отступился от них и гонишь со свету долой? Наконец как-то угомонилась гроза его и собрала ему ужинать; уж сам сатана ведает, прости Господи, что она наварила: не ботвинью, не щи, а только какое-то хлебальное из капустных кочерыжек; а когда попросил он кашу помаслить, так вот вишь из светца возьми сальный огарок, да и приправь им своё кушанье. Да в поставце под образами так нет у них недочёту: стоит полштофика зорной водочки и еще какая-то травянка цветистая. Вот ты и узнай тут людей. Как ономнясь к вашей милости приехал, так того не хочу, другого не надо, а дома кашу помаслить нечем; ну да что и говорить, гол как общипанный сокол!
Тут Авдеевна перевела дух и пока супруги менялись между собою многозначительными взглядами, Авдеевна закатилась опять:
– Уж как я смекнула, что мне у тамошних хозяев выведать более нечего, и побрела со светом к Замоскворечью, к Федулу Панкратьичу. Там, признаться сказать, немногое я узнала: домина большой, каменный, глазом не окинешь, а в нем будто ни души, ничто не шелохнется; я к воротам, а они на замке, я стучаться – а собаки и всполошились – и залились, подняли содом такой как на псарне. Я пригнулась – и вижу сквозь забор в щелочку, – там какие то взрослые ребята босиком, такие неуклюжие, дурнорожие, играют в снежки да подтравливают ещё псов-то на меня, знать, они сами псовые дети.
– Врешь ты, старуха, это дети Федула Панкратьича от первой и второй жены его! – с заметным неудовольствием прервал рассказчицу Гур Филатьич.
– Ну, статься может, батюшка, всё равно, только я там ничего не могла выведать у запертых ворот, а подумала только, должно быть, богат хозяин этого дома, что столько собак у него спущено на двор: знать есть что покараулить подвалы с золотом…
Глаза Гура Филатьича загорелись, как курительные свечки, жаром удовольствия при последних словах старушки.
– Ну, мать, что ты скажешь на всё это? – вымолвил Гур Филатьич, спустя немного времени.
– Я не знаю; как, ты отец? – отвечала Матрёна Андроньевна.
– Да что, – начал Гур Филатьич первый подавать свое мнение: – Подъячий твой мне не по сердцу и вблизи и издали; теперь он ещё больше пропах для меня сальным огарком: я вот так и гляжу, как он распахнёт свой рот, а из него и потянется светильня!
– Да ведь зато он – чиновный человек, не какой нибудь простой, а вот какой… – возразила Матрёна Андроньевна.
– «Чи-но-вный!..» – растянул Гур Филатьич это слово на несколько частей: «ведь его только чин-то и обороняет.
– А Федул-тo твои Панкратьич разве не такой же обдирало? Уж чем, чем не берёт он с тех, кто займёт у него денег; да уж и взглянуть-то на него, так глаза намозолишь: туша тушей, сидень, невпроворот, да и душа-то потёмочная. Агаша наша такая приглядная – и что же, должна чахнуть за ним, как цвет пренежный за тенью пня без солнца… – Любви, прибавить бы должно, но доморощенная поэзия Матрёны Андроньевны ограничивалась сказанным.
– Да, зато он богат! – возразил Гур Филатьич.
– Богат, а приданого все запросит! – спорила с ним Матрёна Андроньевна.
– А подъячий твой уже просишь, уже он подал прошение, легко ли вымолвить: десять тысяч! Да за что? ведь дочь наша не залежалый товар! – Личико ли? – розовый венец! Речь ли? – что твой звук рассыпанных монет – да и вся – со штемпелем красоты, который сама природа наложила на неё! – говорил с самодовольствием Гур Филатьич, поглаживая пушистую опушку подбородка своего.
– Правда, что твой Федул свои карманы надул; но что будят, когда он женится в третий раз, поедет в Гостиный ряд и всю ораву пострелят своих покнет на Агашину заботливость? Ну, какая она будет им мать? Она еще и не умеет быть ею; она, моя крошечка, захочет чем-нибудь потешиться, а он ей наперекор: сиди-ка, голубушка, за четырьмя стенами, да гляди не через забор, а на грязный двор, как там полоскаются утята, а её никто не поласкает…. Что ни говори, а чиновница – то ли дело: Её Благородие, да еще дворянка! Ее будут величать: Матушка сударыня, милостивая государыня, ваша честь и почтение, а она-то себе, хоть ухом не веди: все к ней с поклонной головой! Уж не платочек вскинет она на макушку, а целую шляпу с большими крыльями, как уездная… городничиха или исправнические дочери – вот это будет повиднее, позначительнее, а Федул Панкратьевич твой только что тяжёл.
– Да что тут перекоряться! – с сердцем воскликнул Гур Филатьич: – Что тяжелей, то и перевешивает: Федул Панкратьевич и грузом богат, стало быть весы на его стороне. Вот пождём, что еще будет от наших женихов, а мясоеду[8] остается уже немного…
Тут домашний ареопаг разошелся.
* * *Не знаю, как для других, а мы с Тихоном Сысоевичем согласились, что нет лучше времени во всю зиму, как антракт между святками и масляной. Осенью природа разнемогается, стонет ветрами и заливается дождями, как слезами. Зима несколько успокаивает болезнь её оковами своими, как принятием опиума – она усыпляет её летаргическим сном, мертвит и заколачивает морозом в ледяной гроб. Но когда февральское солнце начнёт разыгрываться на весело освещённом небе, природа как бы начинает полуоткрывать всё ещё дремотные вежды свои, снег понемногу растопляется и ропщет в нагорных ручьях на незваную гостью-весну. Особливо в многолюдном городе, как например, в Москве, некоторые жители её засуетятся со своими мелкими промышленностями: Москва-река украшается балаганами, чреватеет горами и оперяется зеленью ёлок вечно юных. Народ с удовольствием роится на набережной полакомить глаза на строение комедий; резные санки летают по бегу в запуски; ревнивые лошади фыркают; барыни ахают (я разумею здесь провинциальных) при виде возрастающего раскрашенного лубочного городка; дети радостным визгом изъявляют своё удовольствие, высовывая головы из желтых и голубых карет; пушистые московские купчины в просторных санях на сытых конях под белыми парусами прокатываются по взмесившемуся снегу со статуйными половинами своими, – всё как будто задышит новою, воскреснувшею жизнью, вспрыснутою блеском весеннего солнца. Вот краткое предисловие Московской, бешеной, ртутной, неумытой кокетки – масленицы.