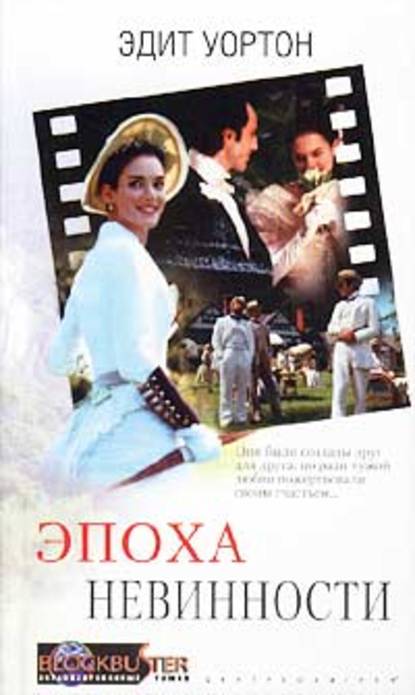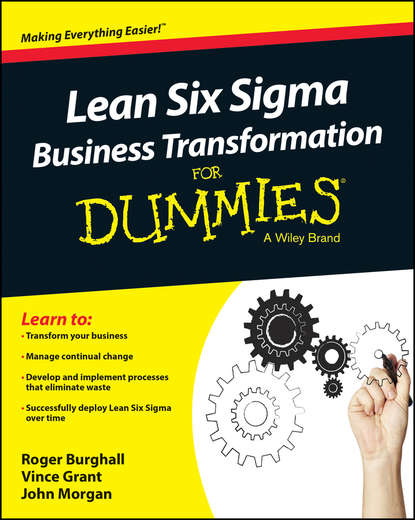Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика
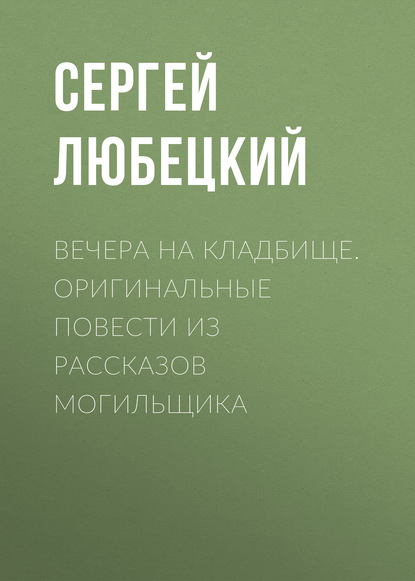
- -
- 100%
- +
Такова была предмасляная неделя и в 1810-м или 11-м году.
Артемий с подругой своей светлыми душами встречали блистательное преддверие весны.
– Милый друг, бесценная Агаша, – говорил он: – Не расцвет ли это нашего счастья? Блеск любви светлее золота!
– Ненаглядный, желанный мой! – отвечала она: – И сквозь злато, как сквозь решето, льются слезы; дорогие камни, – всё-таки камни, жёсткие, холодные…. Не в хоромах, не в парчах таится счастье, но в любви и совете; не с богатством жить нам в свете, а с усладой; не металлы греют душу, а спокойствие, взаимность и радость.
Вот такая любовь или подобная ей философия питала любовников. Близка была развязка: Артемий решился высказать душу свою родителям Агаши – он надеялся на заслуги свои, оказанные им.
В одно время Артемий взошел к Гуру Филатьичу в контору его, сказать и услышать роковое слово. Гур Филатьич против обыкновения своего был очень весел, и лишь только Артемий затворил за собою дверь, хозяин его бросился обнимать своего приемыша, чего не было никогда, и что ободрило Артемия.
– Второй отец мой, батюшка! – с чувством произнес Артемий, – я пришел. просить вас…
– Знаю, знаю! – перервал его Гур Филатьич, – изволь, любезный дружище, я же теперь так обрадован! Не говорил ли я всегда, или думал, это одно и тоже, что моя Агаша бесприданница; ты стопишь того.
– Как, вы соглашаетесь составить мое счастье? – весь восторженный произнёс Артемий.
– Почему же не согласиться: ты давно уже служишь мне верно, честно и отчётливо – награда за мною – и ты скоро получишь ее, как свят Бог, – отвечал Гур Филатьич.
– Батюшка, родной мой! – всхлипывая от слез восклицал Артемий: – Так вы уже знаете о чем я хотел просить вас?
– Как не знать! – самоуверенно отвечал Гур Филатьич, – Видишь; что значит стариковская опытность. Ты задумал, а я уж и отгадал. Ведь ты просишь о прибавке жалованья, не правда ли? Что? А?
Артемий упал с неба своего:
– Вы не поняли меня, хозяин трепетно произнёс он.
– Ну, полно, не скромничай! – прервал его Гур Филатьич. – Я знаю, что твоя просьба не от корысти происходит, а от чего-нибудь другого Для нынешнего дня я на всё согласен; тебе можно сказать причину нашей радости, я знаю, что ты принимаешь участие в нашем прибыточном убытке, как добрый семьянин. Ныне Федул Панкратьич заслал к нам сваху сказать, что он без нитки приданого берёт нашу Агашу. Ну, посуди сам, как не радоваться; только надобно поскорей спешить со свадьбой, а то он уедет на Ростовскую ярмарку. Вот попируем то!
Артемий, поражённый обмер совсем. Гур Филатьич, занятый своим делом, продолжал рассказывать ему дальние наживные проекты свои. Артемий слушал и не слыхал его. Наконец имя Агаши встрепенуло его. В полурассудке бросился он из комнаты – и кажется будто догнал слух его и вковался в него обидный хохот хозяина.
Скоро после того раздались в дом Гура Филатьича протяжные свадебные песни, как на отпевании девства. Он настоял на своем: Матрёна Андроньевна, всплеснув руками и отдав всё на произвол Бога, решилась: варить пиво, печь благословенный хлеб, пахтать масло и проч. – к свадьбе. Девушки-подруги шили приданое, низали бисер и стеклярус. А Агаша?.. Она, как водится, сначала плакала рекою, потом ручейком, потом уже слезы её крапали как дождинки при каком-нибудь живом воспоминании, но ей не всегда было время отдаваться влечению его: дорогие ткани и золотые парчи слепили глаза её, а самоцветные камни и разные сладкие гостинцы заставляли её даже улыбаться и радоваться… Где ж клятвы её? – скажите вы, не вписались ли они в книгу судеб огневыми чертами?.. Не будешь ли ты гореть в золоте, а не на тебе золото, бездушная девчонка?.. Да неужели удивляет вас, читатель, подобная изменчивость чувств у женщин? – удивлять мажет только одна редкость!
Хамелеон!..
Иногда и плакала Агаша в часы раздумья. Женское сердце – масса воску: какая форма натиснет на него изображение свое, то и отразится на нём.
Свадьбой спешили – потому что жених спешил на ярмарку.
Гости теснились по вечерам в доме Гура Филатьича; везде теснились для судьбы двух человек.
Не берусь описывать саму свадьбу со всеми проделками её. Поезжайте, любопытные, в Рогожскую или в Ямскую или куда нибудь на-город, прикиньтесь колдуном или юродивым нищим: вас впустят купцы не только посмотреть, но и принять участие в обыкновениях своих, продолжающихся и до наших времён.
Время текло так же быстро и тогда, как и в наш 1837 год, и уносило много воды, слез, жизни и проч. и проч. безвозвратно для живущих, безучастливо – для отживших.
* * *Я не поэт, не светлый живописец природы, а просто рассказчик былей и небылиц, а потому прошу судить меня без придирок, за то, что я пропускаю мимо толкование о страдании Артемия: трудно выразить тоску бесслёзную, жгучую, удушающую. Скажу кратко: с тех пор как свершилось несчастье Артемия, дни, часы и минуты слились для него в пытку; почти в отсутствии рассудка, бегал он по городу, вдался в пьянство, всячески стараясь рассеять печаль свою, но напрасно. Веселился он насильно, проматывая деньги, здоровье, следовательно и самую жизнь. Приятели были неприятны для него – они твердили ему одно и то же: «Ну что делать, о чем кручиниться? ты еще молод, пригож, разве не найдешь себе другой невесты?»
Аршсмий бегал от утешителей своих; мало-помалу утопляя грусть свою в вине, так привык он нему, что считал уже необходимым для себя быть всякий день пьяным. Во все время свадьбы Агашиной он не мог явиться домой, и что бы он там встретил? Гур Филатьич видел, что молодец заматывается и мысленно определил уволить его от себя. Артемий, очнувшись однажды, с ужасом заметил, что он, сверх всего своего жалованья, потратил хозяйских денег около пятисот рублей. Это усугубило его мучение: честь его не была еще запятнана воровством. Положение его час от часу становилось хуже. В одно утро, предавшись чёрным мыслям своим, сидя уединенно в общественном месте, в каком-то трактире, и залив грусть свою не одним уже стаканом хмельного настоя, вздумал он наложить на себя руки. Сильно встрепенулось и зарыскало в груди его вещее сердце при этой мысли: слезы невольно выступили наружу. Давно ли он, цветущий красотою и молодостью, был так беззаботно покоен, даже весел, как сама радость, а что более всего – честен в полном смысле этого слова? А теперь… Хозяину его некогда было считаться с ним; но он приметил уже из подозрительных его взоров, что Гур Филатьич не добрых мыслей о своём приказчике: – награда за утрату денег, которые были для Гура Филатьича дороже всего на свете, ожидала его в остроге вместе с ворами, мошенниками, душегубами… Га!.. эта мысль привела его в содрогание: холодный пот проступил по лицу его, но сердце горело всеми огнями ада. А где Агаша? Прощай жизнь, коварная жизнь!.. обольстила ты юношу кометным блаженством своим – так потухни же сама! Какие удары ни разбивались о грудь его, он терпел, но последний удар, согласитесь сами, сокрушил бы и самое гранитное терпение. Так думал Артемий – и в глодании отчаяния закрыл руками лицо своё, – вдруг все чувства его оковало какое-то предсмертное самозабвение и каково же было удивление его, когда чья-то рука расшевелила внимание его, тряся за полу платья.
– Слушай-ка, приятель, о чем так крепко призадумался ты? – говорила стоявшая пред ним высокая, худощавая фигура во фризовой шинели, с красным, лаковым лицом, рыжими усами и подбитым глазом, давно уже обмеривая его издали пристальным вниманием. – Ведь от пролития слез не вырастет ничего: лучше признайся-ка в чем дело! – продолжала отвратительная фигура, понизив голос: – Бежал что ль ты откуда – укроем! Труп что ли не сможешь вытащить один из-под половицы – поможем! Денег что ли надобно – пособим!
– Кому дело до меня? – сурово отвечал Артемий, на которого это явление произвело самое невыгодное впечатление; oн отвернулся.
Незнакомая фигура язвительно улыбнулась и спокойно уселась подле него.
– Напрасно отталкиваешь участие, приятель! – заговорила она опять: – Может, настанет такое время, что принял бы пособие, да поздно, а я не раз уже помогал подобным молодцам.
– А чем ты можешь пособить мне? Помощь твоя бессильна: лучше наложи заплаты на свои оборванные локти! – коротко отвечал Артемий.
Фигура улыбнулась еще язвительнее, так что уста её расплылись почти до ушей, а глаза блеснули диким огнем. Она распахнула шинель свою – и Артемий с изумлением увидел под нею изысканно щегольской бархатный кафтан, застёгнутый вызолоченными пуговицами.
– Точно ли можешь ты дать мне денег? – спешно спросил Артемий.
– А ты мне чем заплатишь за них? – хладнокровно в свою очередь спросила его таинственная фигура.
– Душою – если ты демон – и всею кровью – если человек, – твердо произнёс Артемий.
– Побереги и то и другое для себя, – возразил незнакомец. – А вот какое условие: отдай мни свободу свою.
– Я тебя не понимаю! – отвечал Артемий.
– Пожалуй, я растолкую, – сказал незнакомец. – Дело вот в чём: я набираю охотников – в солдаты… продайся, и получишь деньги.
– А сколько дашь ты мне их? – быстро воскликнул Артемий.
– Рублей пятьсот!..
– Я твой!
– Вот и ладно! Так по рукам же, задаток готов. Эй, малый! вина, а ты пиши условие, – говорил незнакомец, распоясываясь и звуча деньгами. Пригожий полнощёкий мальчик, служитель трактирный, в белом фартуке, в шелковой рубашке, опоясанной золотою тесьмою, явился с закупоренною бутылкою и со строем рюмок; ловко раскачнул он подносом, поставил его перед гостями – и пошла пируха навеселе. Условие было заключено. Судьба Артемия свершилась: он продался охотником в солдаты.
* * *Кто видал как гуляют охотники, запродавшиеся в солдаты? Кто не имел этого случая, тому советую по первому же снежному пути побродить по большим московским улицам: там, верно, встретит он несколько извозчичьих саней, разбегчиво подкатывающихся с седоками своими к пристаням забвения – т. е. к трактирам, заманивающим к себе издали живописными вывесками с замысловатыми надписями: Керезберг, Варшава, Браилов, и все это не в дальнем расстоянии одного от другого. Кто из домоседов не бывал в этих городах, тому покажется любопытно за небольшие, извозчичьи прогоны, изъездить в Москве почти всю Европу; к тому же ведь это не сухая какая-нибудь панорама, и не картина, намалеванная на холстине, но существенность, одушевленная людьми и людьми ласковыми, принимающими всякого приветливо, учтиво, потчивающими радушно и говорящими с вами по-русски, не смотря на то, что они живут во Франции, в Польше и т. д. Там увидите вы также не холодных улиток-англичан, с обточенными, гладко выскобленными подбородками, но хозяев в полном смысле, бородатых и родных потомков славян, настоящих ваших соотчичей. Кроме наружной вывески, там ничего не найдете вы иностранного: там также пахнет русскими щами и звучит полновесными поговорками. Вот там-то пируют охотники с отдатчиками своими: там-то скромность бывает на привязи, а похмелье на спуску. Тот, кто выторговывает себе свободу от солдатчины на чужой счет, не жалеет ничего, чтоб угостить досыта, даже до пересыта, избавителя своего, а этому некогда и одуматься бывает: ему не дают времени проспаться, а заливают и закармливают его, как пулярду на убой.
Опять повторяю, советовал бы всякому русскому посмотреть хоть раз в жизни на катанья охотников: это национальная черта; жаль, что не выберется никто в роде Теньера изобразить эту картину смелою, вольною кистью; наша история потеснилась бы дать место этой выскочке.
Вглядитесь как охотник сидит отважно в санях: на его улице праздник, – будни впереди, он спит себе и качается, и свистит, и оправляется – то сядет гоголем, оправит рукавицу, важно подбоченится; то опять раскинется небрежно, как вельможа в креслах, и кричит: «прочь с дороги, мужик, экой неуч, сипач!» – Он уже становится стройным, бравым солдатом и гордится. – Сопутник его стережет весельчака, как колодника, глаз не спускает с него, руки не отводит от его кушака, как будто из дружбы – а простак целует своего Иуду.
Извозчик их – что и говорить: шапка с заломом, руки натянуты как вожжи – бегун расстилается по снежному ковру, санки летят и кувыркаются по ухабам… поди, поди! – полозья визгнут и подкатятся к подъезду трактира. Там-тo и начинается хаос веселья – разгульные песни под гусли-самогуды, плясуны и тамбуристы – диво! Вот краткая обрисовка охотничьих катаний, которые продолжаются до тех пор, пока санки последние подвезут их к Казенной Палате – и тамошний сторож закричит: лоб! На лбу охотника выступит холодный пот – похмелье спадет, как оковы с тела – и душа проснётся для новых видений. Но всему привычка вторая натура.
Такому-то насильному удовольствию предавался и Артемий вполне. В воображении его засветились до того неведомые ему желания – он пил, бушевал, раскатывался с гиком и смехом по всей Москве и, исступлённый, полудикий, вскрикивал: «Эх, везде солнце светит, любо жить на свете!», но слёзы невольно крапали на грудь его – и сердце судорожно сжималось под гнётом скрытой тоски своей. Так однажды катался он по просторному Замоскворечью с обольстителем своим до поздней ночи, и докатались они до того, что все трактиры заперли уже и не впускали их никуда. Артемий печальный, изнеможенный, задремал уже; вдруг сопутник его вскричал:
– Извозчик, стой, поворачивай правей, ишь какие огни светят вон у этого большого дома! Подъезжай туда скорей, это должно быть трактир!
Артемий встрепенулся, сани подкатились под освещеные окна – он вглядывается – и что ж бы вы думали? Четыре местные церковные свечи в высоких посеребренных подсвечниках, обвитые чёрным крепом, стояли симметрично около розового, богато украшенного серебряными бляхами гроба, а в нём лежала… Он узнал ее, несмотря на мертвенную бледность лица и уст, некогда дышавших весеннею теплотою жизни – она как будто только рассталась с жизнью: какая то неземная полуулыбка сияла на лице её, руки прижимались к груди… и покоились на застывшем уже сердце. Артемий в горячке чувств забился в окно…
Сопутник схватил было его за плеча жилистыми руками, своими; но он с невероятною силою вырвался из его рук и пустился к Каменному мосту… Куда делся – Бог весть!
Даже Квартальный Надзиратель тамошнего квартала не мог дать отчета начальству своему о пропавшем молодце.
Что сделалось с Агашей? Старухи Замоскворечного околотка – тайком говорили друг другу, что муж её был лакомый кровопийца и уже из трёх жен высосал жизнь… это составляло его свирепое удовольствие. Догадывайтесь сами, что было причиною смерти её.
И Тихон Сысоевич сказал мне о ней неудовлетворительно.
* * *Одно несчастье влечет другое.
Пословица, писанная опытом в свиток жизни.
– Ну, старуха, полно тосковать! – говорил Гур Филатьич, перебирая пуки ассигнаций, жене своей; повязанной траурным платком. – Посмотри-ка сколько выручки получал я сегодня только за один месяц! Утешься: мы положим их к старому приобретению. Слава тебе, Господи, ныне же отслужу молебен своему патрону!
– А завтра панихиду в память покойницы: завтра девять дней Агаше… Ох, мои родные, тошно жить па свете… сгибла ты, моя крошечка, мой голубчик беленький, – говорила плачущая Матрёна Андроньевна, всплеснув руками.
– Смотри-ка, жена, – перервал ее Гур Филатьич, продолжая заниматься своим делом и вытаскивая красную бумажку из целого пучка: – ведь это фальшивая… я узнал её по осязанию, да я её сбуду с рук…
– И полно, Гур Филатьичь! Как ты Бога не боишься, что хочешь обманывать людей из-за таких пустяков; послушай меня хоть однажды: брось её.
– Ну, пожалуй, ин быть так! – нехотя произнес Гур Филатьич, свёртывая ассигнацию трубкой.
Близ него топилась печь: он лениво швырнул в неё бумажку.
Быстро охватило её пламя, втянуло в жерло печки – и только что замелькали розовые искорки на пепле.
– Хозяин! Федул Панкратьич прислал к вам что-то! – послышался голос из-за двери.
– А, слава Богу, знать он прислал Агашино приданое! – радостно произнес Гур Филатьич, поспешно сунул деньги свои под шапку и вышел из комнаты, сопровождаемый старушкой своей; а Иванушка, малолетний сынок их, высматривавший сквозь щелку двери на занятия отца своего, вошел вместо него в комнату.
Немного погодя возвратился Гур Филатьич. Иванушка встретил его:
– Посмотри-ка, тятя, как славно горят все разноцветные бумажки твои! – сказал он: – А то что за важность одна, вишь, как переливается на них огонь! – и дитя захлопал от радости в ладоши, что умел составить себе такую забавную игрушку, подражая отцу.
Гур Филатьич взглянул – и обомлел; весь пучок ассигнаций его обратился уже в пепел – кое-где только проскакивали искорки.
– Ах ты, собачий сын! – заревел он скрежеща зубами, и хлопнул его по виску медным набалдашником палки своей.
Мальчик покатился мертвый.
Донесли, что преступник был одержим белою горячкой, и вскоре после того, не знаю уж хорошенько, от угрызений ли совести, или от лекарских микстур, Гур Филатьич умер на подушке, набитой пучками ассигнаций.
С участием взглянул я на могильный камень, налегавший на прах Гура Филатьича, тяжко вздохнул – и, обуреваемый черными мыслями, с грустью побрел домой…
Вечер второй
99 волос, или Лаковый череп
Как чудна, смешна и разнообразна жизнь людей! – это призма всех цветов, переливно меняющихся. У одних часто вспрыскивается она слезами, у других фиалом забвения – вином; одних неласковая судьба водит за нос, да еще прищёлкивает по нему, гладит их по гладкой макушке шерстяною рукавицей и поставя их на хрупкие ходули, заставляет плясать насильно до слёз; других она нянчит на мягких ладошках, своих, приголубливает не по-мачихиному, закатывает в пух удовольствий, холит в благоуханной купели наслаждений и оттуда вдруг прямо бухнет в грязную лужу невзгоды. Посмотрите – иной юноша ходит козерогом, а старик на дыбках. И здешний свет не разгадочен; что ж будет там?
Нашего полку убыло, убыло,Ахти, тоски прибыло, прибыло!..Плач инвалидов на могиле любимого товарища.За ненастьем – вёдро;за тоскою – радость!Старинное замечание.Не знаю, как вас, читатели, а меня Тихон Сысоичь приохотил слушать некрологию жильцов своих. На другой вечер, когда сумеречная темнота, расширив крылья свои, начала отенять московские улицы с тьмочисленными переулками её и безпощадно сметала с земли солнечные блёстки, как веником, я уже сидел…ском кладбище рядом с рассказчиком своим и по-дружески вёл с ним следующий разговор:
– Ну, почтенный товарищ, – начал я: – повесть твоя настлала на душу мою тень, чернее теперешних: я и во сне видел Гура Филатьича, который будто бы вытаскивал из-под меня подушку, жалуясь на жесткость гробовой, а, может быть, думая, что в ней зашиты ассигнации его. Теперь расскажи-ка мне что-нибудь повеселее…
– Изволь, барин! – отвечал словоохотливый собеседник мой, обчищал заступ свой от сырой земли: – У меня есть и веселый покойник. Всмотрись-ка: вон левей от черного-то креста квартира его под лысой вывеской!
Любопытство сдвинуло меня с места: я подошел поближе к показанной Могиле и увидел на простом, выкрашенном кресте незатейливо изображенную лысую вывеску: так иронически называл Тихон Сысоич Адамову голову.[9]
– Вот, барин, этот кудрявый череп (Тихон Сысоич был остряк) страх как похож на весёлого покойника, о котором я хочу рассказать: и глазки, словно опустелые гнезда, и клыки зубов, только нос у того был большего роста…
Эпитафии не заметил я никакой на ветхом памятнике; крест с качнуло ветром несколько в сторону и стоял он, точно подбоченясь или шатаясь от похмелья, как будто из покойника выходили еще какие-то испарения и сообщали их дереву. Только заметил я на кресте начерченные какие-то символические слова, вероятно перочинным ножичком: две палки, подпоясанные поперёк, точно буква Н; но вышло дело, что это была буква А; еще Египетская пирамида на скамейке – стало быть это старинное Д, и в заключение К с таким большим крючковатым носом, что я подумал: уж не готовится ли начальная буква фамилии героя грядущей повести, вытянуться ко мне в табакерку за приёмом одного заряда табаку – а это также был символ одной из страстей покойника; к довершению всего я заметил, что он похоронен точно в насмешку, под осиной, и на его могиле, расположенной в сыром и топком месте, вместо розы вырос огромный мухомор.
Когда я вдоволь насмотрелся на могилу со всеми её и принадлежностями, Тихон Сысоич опять завел речь:
– Этого знаю я лучше всех здешних постояльцев: он нанимал уголок у отца моего, который производил тогда обручное мастерство, и мне, еще мальчишке в зимний вечер рассказывал бывало мудреные похождения свои.
Читатель, слышанное пополам!
Отставной магистратский чиновник Алексей Дорофеевич Калдуев, коллежский секретарь и разных жён и вдов услужливый кавалер, родился в 17.. году на Бутырках, как и многие великие люди происходят оттуда. Думаю, что не только иногородние, но большая часть и московских жителей не знают в подробности столицу баранок. Бутырки! разбирать ли исторически это село, ознаменованное рождением Алексия Дорофеевича? не хочу верить, что оно получило название свое от Бутырского полка: лучше согласимся, что бич древней России, Батый, приплыл туда на Венецианской гондоле от Волги через Оку и Москву-реку, тайком влюбясь в какую-нибудь россиянку, диву снегов, и в честь её давал бал на расчищенной поляне, угощал красавиц маханиною, мясом любимого коня своего – от того это место и прозвалось Батырками; но капризная молва преобразила букву а в у, и вышли Бутырки, к вашим услугам: а можешь быть, в это место ссылали Московских чухонцев, где они делали свое Butter[10]; как бы то ни было, но вот вам готовый источник для исторического романа, недавно откопанный догадками. А что всего вернее, то это название, положим, может происходить и от Бутырей, или понятнее: от будочников-инвалидов, которые сперва нанимались караулить горох и репище, потом, выйдя в чистую отставку, избрали это место отчизною своею, поселялись там, заводились домком, пропитывались, положим, хоть деланием мышеловок, и таким образом породили великое число служителей типографиии: наборщиков, подъёмщиков, тередорщиков[11], словолитцев и проч.
И в самом деле, эта сторона теснится почти только для особенного этого племени, для ранга людей, отличного от других во всем смысле этого слова. Теперь промышленность мышеловками обратилась в баранки, и если кому угодно посмотреть на Бутырки во всей их характеристике, то милости просим пожаловать туда восьмого сентября в праздник Рождества Богородицы, и там увидите вы всё: и азиатскую роскошь, и немецкую аккуратность, промокнутую пивом. Там бывают в это время: Московское гульбище, иногородняя ярмарка, откликающаяся гудками и дребезжаньем барабанов. Там красуются трактиры для приказных, гостиницы для извозчков; там бывают раскинутые на скорую руку лубочные балаганы, завешанные вуалями рогож, а в них найдете вы и благовонную помаду из сальных огарков с наклейками портретов Зонтаг для Бутырских красавиц, и душистый дёготь для ямщиков; там и выставки женских красот, и собачья комедия; там всякая всячина, начиная от потомков Алексея Дорофеевича, до палатки с верблюдом. Почетное лицо на этом гулянье есть – Квартальный Надзиратель со свитою своею.
Итак, Алексей Дорофеевич был (упокой Господи его душу) сыном, не то что бы какого-нибудь тередорщика, но словолитца, следовательно происходил по прямой линии от бутыря, т. е. старшего земского ярыжки. В то время Бутырки хотя были и попроще нынешних, однако тщеславились тем, что незадолго до рождения моего героя проезжала через них Великая Екатерина по пути к Троице, гостившая летом в Петровском дворце. Алексей Дорофеевич родился в феврале месяце в день Кассияна, и в тот високосный год, по замечанию старожилов, развелось на пажитях множество саранчи и летучих мышей.
Так как родитель Алексея Дорофеевича был человек небогатый, то появление на свет сына его не было встречено оркестром музыки и заздравными кликами; одни только мыши за сундуком, с визгом разделяя между собою какую-то добычу, хором пропищали ему привет свой, а на крестинах его вместо бала, была простая медвежья пляска перепившихся типографских витязей, державших за кушаки друг друга и рисовавших тяжелыми ногами своими непроизвольныя па; к довершению крестинного пира, сказывают, завязалась драка между каким-то капралом и церковным псаломщиком, из которых последний принес в жертву этого спектакли свой пучок волос (недобрый знак для новорожденного, как увидим ниже) и пошел на свою колокольню с чистою головой. Других, также расхрабрившихся гостей, развели уже пожарной водоливной трубой – и выпроводили чуть не толчками со двора. Таким образом разошлись все гости, хотя биты, зато сыты.