Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика
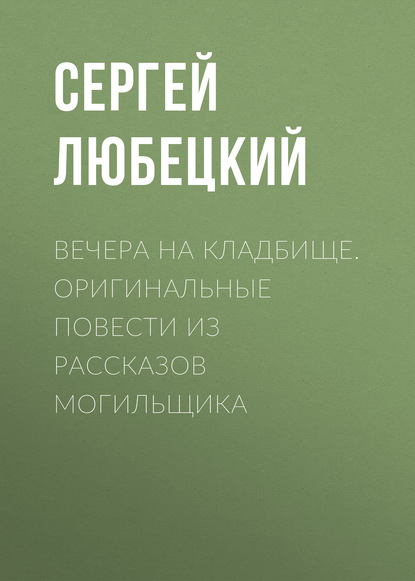
- -
- 100%
- +
Услужливая челядь домашняя, встретив госпожу свою, задвинула ее от мальчика стеснённого толпою; и тогда какой-то нахал из лакеев, обмерив его прежде критическим взглядом и приметив убожество парнишки, схватил его за шиворот как пуделя и, приподняв на воздух, чтоб он не замарал сапожищами своими налакированного пола, который ему же бы досталось чистить, понёс его чуть не под мышкой сенями – и таким образом вскинул во внутренние покои.
Мальчик не обижался таким приемом: он смотрел не насмотревшись досыта на окружавшее его великолепие. Посудите сами: из дымной, тесной, стоявшей на костылях Бутырской избушки, настоящей квартиры Яги Бабы, судьба перекинула его, как в волшебном сне, в боярские палаты: вдруг увидел он себя окруженного разноцветным хрусталём и бронзою, люстрами и канделябрами, шелковыми драпрами и зеркальными стенами. О чудо чудес! куда ни оборотится он, везде видит отражение неловкой фигуры своей в байковом халате, и торчок того пучка, за который бывало драл его и отец и наставник; какое бы непроизвольное движение им выступило у него наружу, зеркала передразнивали его во многих местах. – Алексей Дорофеевич, утроенный, учетверенный, представлялся в нескольких экземплярах: ему понравились эти фантасмагорические видения, он был покинут один в зале – и сперва робко, потом смелее, начал издавать из своего корпуса разные позиции, переповторенные зеркалами, как дикий американец, очарованный невиданным видением. Каких затей можно было ждать от необразованного мальчишки: он, подходя к зеркалу, насучивал на изображение своё кулаки, кривлялся, ломался, хохотал от избытка удовольствия, высовывал язык: зеркало, верный живописец-предатель, оно давно уже отпечатывало формы его; на ту пору где-то вдали запищал кинареечный орган песенку.
Алексею Дорофеевичу тихонько, чуть шевеля губами, пропела в зеркало фигура:
По улице мостовой,Ох, ты парень паренёк,Твой глупенькой разумок.Вдруг звуки музыки переменились: орган заиграл весёлую песню: как пошли наши подружки; Алексей Дорофеевич не утерпел: подперся под бока и пустился пред зеркалом вприсядку, ботая в раму его ногами, да еще и вскрикивая от избытка удовольствия: их! их!..
Музыка прекратилась и послышался громкий, раздольный хохот.
Bo все двери, ведущие в залу, были вставлены усатые рожи холопьев, а из потайной дверцы давно выглядывали на Алексея Дорофеевича сами господа-хозяева, любуясь его любованьем на себя; за смехом господ раздался хохот челядинцев.
Насилу вытащили Алексея Дорофеевича, пораженного, устыженного насмешками свидетелей глупостей его, из-под дивана, куда забился он сокрыть позор свой; наконец госпожа, полюбив его еще более за эти проказы, приласкала, ободрила, умыла, накормила его и он начал опять любезничать, рассказывая похождения свои и причину прихода, прося в заключение рассказа своего определить его в какие-нибудь приказные мастера. Откровенность Алексея Дорофеевича понравилась и госпоже и супругу её, которому она уже успела отрекомендовать фаворита своего. Ему обещали исполнить желание его и дав ему на дорогу денег и гостинцев, велели отвезти его домой на собственных пошевнях[15], взяв наперед с него слово, как можно скорее явиться к ним в дом, где хотели начать хлопотать в его пользу.
Обрадованного Алексея Дорофеевича уже ночью привезли на Бутырки и высадили у ворот дома его.
Словолитец Дорофей Абрамович не поверил сыну своему, что он был в доме именитых бояр и дал ему добрый нагоняй, приговаривая: «Не ври, не бродяжничай, работай, трудись!» и проч.
На другой день, когда золотые сны надежд его рассеялись, он, вздохнув тяжко, опять надел байковый халат свой и его повели в типографию на аркане. – Г. Н. принял его с особенно суровою миной, – лишь только увидел он его, что-то шепнул работникам своим, а его ввел в контору и затворил за собою дверь.
Теперь надобно предуведомить читателей отчего особенно сурово принял Алексея Дорофеевича начальник его:
Накануне того дня, вечером, велено было содержателям типографии, Г. Г. N. N. явиться к его превосходительству, одному из кураторов университета. Они спешно исполнили его повеление и предстали пред его вельможеством чинным порядком!.. Генерал объявил им, что он хочешь взять из их ведомства под своё покровительство такого-то мальчика, сына словолитца. На желание его немцы прежалостно возопили и завыли ему свои жалобы хором:
– Помилюйте, ваш прескадительсва, ми по сил контракт не дольшен пускать никакой шелофек на фолю, ми плотим тенги за то…»
Генерал думал, думал, приложив палец ко лбу, на что б ему решишься; между тем немцы как ни были горды, учащали кланяться ему до земли; он был человек справедливый и понял ясно, что нарушит привилегию содержателей, отнимая у них их достояние.
– Ну, ступайте! – воскликнул он наконец: делать нечего, если нельзя того исполнить!
Немцы, продолжая раскланиваться, безмолвно выбрались один за другим из приёмной его, обрадованные, что дело кончилось в их пользу, и взбешенные на Дорофеевича, что по его милости так напугали их зовом к Генералу, что они не успели за ужином доесть своего бутерброда и допить несчётную бутылку пива.
Возвратимся к покинутому герою нашему в конторе типографии.
Не долго оставили Алексея Дорофеевича в неведении о грядущей участи его: принесли пуки розог и хотели было посвятишь его должным порядком в рыцари букв; но он был тогда еще проворен, как кошка гоняясь за милым предметом своим, бросился он к окну и с рамой его пробился наружу, но не совсем счастливо: в окна вбиты были гвозди для каких-то, может быть, голубиных припорок, и он, зацепившись за них космами нерасчёсанных волос своих, повис, как новый Авессалом на воздухе. За ним бросились; уже нисколько рук потянулись в окно за добычей своей: Алексей Дорофеевич висел как удавленник, с мужеством терпел нестерпимую боль, на лице его в это время вытискивались явственно корчи тела; и вдобавок того, заметив еще за собою погоню, с твердостью решился он рвануться, и, увы! оставив большую часть кудрей своих на гвоздях для завивки птичьих гнёзд, опустился на землю.
Вот первое обнажение столицы существа его.
Он бросился бежать прямо к заступнице своей; швейцар не был уже для него недоступным и пропустил его молча в парадные сени. Милостивая госпожа сама встретила несчастного, гонимого рукою судьбы, в которой держала она пук розог; ласково, внимательно выслушала она жалобу его и сколько могла успокоила юношу и даже посадила его с собой на софу, обитую штофом и золотою тесьмою, во всем неприглядном одеянии его – и потом послала за содержателями типографии, которые жили недалеко от нее.
Немного погодя они явились.
Госпожа приняла на себя серьёзный вид; мальчик затрепетал, увидя их, и прижался к госпоже своей, и они смутились не менее, увидев там упрямца своего, еще ненаказанного и сидящего рядом с именитою госпожою.
– Слушайте, немцы? – начала Генеральша, возвыся голос: – Как смеете вы управляться с работниками своими, как с закабалёнными рабами? Разве они вам отданы в крепость? А?.. – Тут госпожа привстала с угрожающим видом, отчего немцы попятились, как будто на колёсах отъехали к дверям.
– Ми-ми, ви-ви сударынь, о! помилюйте, es ist nicht mahr… ben Gott; ben Gott…
– Что тут за оправдания? – прервала их госпожа: – Сию же минуту отпустить мальчика из ведомства типографии…
– О! nein, nein… сама нужна! – заспорили с ней немцы.
– Как! Вы еще смеете грубить, шмерцы проклятые?! Кому же? Мне? Начальнице своей! Ах вы, немчура окаянная, да знаете ли, что я уморю вас в тюрьме… Гей, люди! – воскликнула она, сопровождая слова свои звоном колокольчика, и когда вбежала толпа официантов, она, показывая на трепещущих иностранцев, сказала: – Свести немцев на Съезжую, а к обер-полицеймейстеру я напишу особенное письмо.
Люди приступили к ним.
Содержатели типографии поняли в чем дело. Московскую Съезжую тех времён они знали, и всегда обходили её мимо, чтоб не зацепиться за что-нибудь и не унести на боках своих палочной награды; они повалились в ноги госпоже:
– Что твоя надо, матушкин, возьми, деляй! – вопили они.
– Нет, нет, ничего мне не надобно теперь, – хладнокровно отвечала Госпожа, приметив испуг их, и пошла прочь.
Испуганные немцы пресмыкались пред нею, как лягавые увиваясь у ног её.
– Ну, хорошо! – сказала она наконец: – Как можно скорее отпустите мальчика, а то я завтра же напишу еще в Петербург, – и топография передастся другим!
Слухи пронеслись, будто содержатели, выходя из комнаты, с угрозою посмотрели на романического героя, и он будто бы расхрабрился жестоко после их ухода.
На другой же день Алексей Дорофеевич был отпущен от подданства типографии законным порядком, а через неделю был определён с чином копииста в треитий департамент Магистрата, имея от роду тринадцать лет; это было в 17.. году.
Вот наконец и стал он хотя и не совершенным приказным мастером, но сперва подъяческим подмастерьем. Пользуясь милостями Генеральши и смышляя сам разные обороты, зажил он славно. Гений подъячества, ровесник его, родившийся вместе с ним или, быть может, втянутый им когда нибудь из кружки, одушевил ого. В Магистрате была его стихия: там он быстро развил клубок понятий своих, целиком проглотил все подъяческие термины н не только скорчил руку, но и сам от прилежного письма согнулся навеки крючком. Словом: он в полной форме заслужил себе название кривосуда. Тогда брать взятки не почиталось большим грехом; но Алексей Дорофеевич всегда хоронил их от жадных, завистливых товарищей своих… для чего бы это, думаете вы? – отгадайте! ну, разумеется, чтоб не делиться с ними. Когда проситель давал ему благодарность свою прямо в руку, это он называл «приёмом с парадного крыльца», а когда выдёргивал он за ремешок крышку тавлинки своей и потчуя его табачком, нудил одним взглядом вложить ему туда что-нибудь; это он называл «приёмом с заднего крыльца». Да мало ли было у него подобных занятий: он приучал нуждающихся в его помощи вкладывать ему деньги в гербовую бумагу, за обшлаг рукава и проч., и перемещал их после в карман, или под язык, за щеку, и т. д.
Ужь как за красовался Алексей Дорофеевич на Бутырках своих, разгуливая в свободное время по тамошним улицам: он купил себе щегольской, плисовый картуз с большим козырем и с шелковою кисточкой на макушке, а халат променял на тёмно-зелёный кафтан с придачею двух рублей без гривны. Впрочем, надобно заметишь, тогдашняя голытьба подъячих, особенно в Магистратах, Думах, Управах, Гильдиях, Межевых, Приказах, Уездных, Земских и Надворных Судах и прочих низших дистанций была не очень великолепна ни видом, ни костюмом своим. Многие из приказной челяди ходили в Палаты свои только за жалованьем и оттуда вскоре спускали их в Яму отрезвиться, почти что опять до первых чисел нового месяца; наряжались они так же, как и Алексей Дорофеевич прежде: в байковые и нанковые сюртуки и были век неумыты, небриты, краснорожи, с карманом оттянутым от груза медных денег, как у дьячков, подпоясанные веревками, обрывками суконной каймы и проч., и сидели в закопченных судах своих просто на поленьях дров, уставленных стоймя; после присутствия уносили они седалища свои под мышкой домой, чтоб товарищи не стянули их и не пропили – тогда б пришлось сидеть им на орудиях хождения своего. Пописав немного, подъячие, закинув перья за уши, нагибались под стол, вытаскивали из-за широких голенищ сапог фляги с сивухой, и пили приставя без церемонии горлышко к губам своим, как будто играя на волынке; после подкликали к себе пирожника или сбитенщика, разхаживавшего тут же, и свертывая мягкий масляный пирог в трубку, пожирали его жадно, между тем как масло капало на их бумагу, а табак сыпался как перец.
А иногда, вместо закуски, жевали они просто жвачку из бумаги, извлекая и из того какую-то для себя пользу.
Да простят меня деликатные читатели за верную обрисовку быта несчастного подьячества. Я изобразил (хотя Теньеровскою кистью и Измаиловским пером) истину: пусть сами они вступятся за меня. Да впрочем, из взыскательных, кто хочет, пожалуй себе не читай вышеописанного; я кончаю этим мое оправдание. Хвала просвещению нашему – хоть сколько нибудь, но всё подвигаемся и мы вперед, а кто едет навстречу нам – те остаются назади. Туда им и дорога!
Алексей Дорофеевич отличался от многих товарищей своих опрятностью; этому была причина: внимание к нему почтенной госпожи, имя которой многие воспоминают и до сих пор с благоговением. Оп прослужил недолго в Магистрата своем: дела оттуда поступили в Камеральный и Юстицкий Департаменты, где были председателями генералы Михайло Васильевич Волынский и Барков. Они, казалось, не были склонны покровительствовать ему. И потому, получив сперва чин подканцеляриста, потом целого канцеляриста, перешёл он без дальних хлопот и приключений служить в Межевую канцелярию. Госпожа его, сделав для него последнюю милость: отрекомендовав его генералу Апрелеву, управлявшему Временным отделением Межевой Канцелярии, скончалась; скоро умерли и родители его, не успев досыта налюбоваться на свое детище – и таким образом Алексей Дорофеевич, совершая по ним частые тризны, зажил уже почти что один совершенной сиротинкой, хотя племя фамилии его было рассеяно по всем Бутыркам.
Жизнь его скинула уже слишком 20 лет с костей долой.
Гснерал Апрелев полюбил молодого человека за расторопность и взял его служить и жить к себе в домашнюю канцелярию: тут-то Фортуна полила на него из рога изобилия дары свои. Смело и весело зажил он… только прославленные поэтами вино и женщины губили его немного, а кого не губили они? И пылкие и холодные рассудки, и горячие и хладнокровные темпераменты; – но дело не до них: Алексей Дорофеевич, будучи в любви и милости у такого человека, как г-н Апрелев, получал богатые доходы и, разумеется, уже был почитаем всеми знакомыми своими, имел многих поклонников: тщеславие его развертывало почки свои – он одевался богато, ел сытно, пил много и являлся не последним на всех Московских гульбищах.
Еще несколько зёрен терпения, читатель: великолепный Алексей Дорофеевич, помните, откупился от розог большою частью волос своих; к довершение уничтожения их, когда-то ночью, сказывают современники его, напал на него целый хоровод летучих мышей и начал выщипывать у него из головы по волосинке, гоня его полем из Москвы на Бутырки; даже плисовый картуз с большим козырем и звание подъячего не спасли несчастного. Как и от чего это случилось, право не знаю: может быть обнаженная голова его светилась по ночам, как гнилушка, а для летучих мышей свет – магнит, притягательная сила. Не верите? – Взгляните в Оракул или в Сонник, и там найдёте вы: секрет от чего не растут волосы – тому причиною также летучие мыши.
Другие напротив утверждают, что Алексей Дорофеевич был подвержен лунатизму и хаживал по ночам неугомонным дозором мимо тех окон, откуда замечал он днем мелькание хорошеньких женских головок с их приветными уловками, и однажды, во время такого путешествия его, облила его невидимая рука, должно быть какою-нибудь спиртоватою влагою, потому что после того полиняло не только платье его, но и голова совершенно, за остатком 99 волос по счёту самого домового, который ласковою рукою завивал их ему.
Алексей Дорофеевич не унывал: так как он страстно, до исступления любил весь женский род во всех разрядах его, то вздумал купить себе для украшения, а ему для прельщения, пышный парик с косою, которая преизящно загибалась у него сзади собачьим хвостом; в этом новом украшении стал он казаться еще великолепнее: все Бутырские красавицы, варящие щи, моющие чугуны и полющие морковь и картофель в огородах, ходили за ним станицами и любили до безумия кошелёк его, который расточался для них на пряники, орехи и вино.
* * *Везде смотрел я циркулярно,Но не нашел такой красы!Люблю тебя я формулярно,О милый бич моей косы!..Вот наступил еще новый период жизни Алексея Дорофеевича.
Настало лето – светлое, прелестное, улыбчивое, как счастливая любовь; сердце Алексея Дорофеевича расступилось, растворило скрипучую заслонку свою для принятия живых впечатлений природы; ему наскучило однообразие: вино, чернила и кухарки – он вздумал посвятить жизнь свою какому-нибудь одному предмету, понимающему его насквозь, который бы мог вполне оценить чувства его и натиснуть на них свою пробу.
Случай к тому открылся скоро.
В то время было гулянье по праздничным дням в Петровском-Разумовском селе, которое застали и мы во время владения им князя Долгорукого; но тогда оно принадлежало еще фельдмаршалу Кирилле Григорьевичу Разумовскому. Особливо в Петров день[16] радушный хозяин славно угощал московскую публику: в крытых тенистых аллеях прелестного сада играла музыка – доморощенные артисты его громко били в литавры; в других местах певчие (заправские) и песельники раздольными своими песнями потешали гуляющих. Полицейские чиновники так же чинно, как и теперь, в красных мундирах с эполетами, на которых изображен был Георгий Победоносец, с воротниками железного цвета[17], стаивали фрунтом в разных местах для наблюдения порядка. Народ пестрыми толпами переливался из аллеи в аллею. Там было нисколько цветников: из ароматных растений и прелестных женщин. Вечером перед домом весь обширный луг и сад горели бриллиантовыми и сапфирными огнями плошек и Фонариков; на воздухе кипел и крутился фейерверк: ракеты хлопались как пробки из бутылок, бураки[18]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Церковь Спаса Всемилостивого, что в Чигасах (постр. в 1483 г.)по адр.: Москва, 5-й Котельнический пер., 12. Разрушена в 1930 г.
2
В словаре 1847 г. слово «салопница» объясняется так: «I) Делающая салопы. 2) Обл. Женщина, ходящая в изношенном салопе и просящая милостыни» (cл. 1867–1868, 4, с. 182).
3
Сгибень – пирог с фаршем, лепешка, загнутая надвое.
4
Степняк – а/; м. см. тж. степнячка, степнячок 1) Уроженец, житель степи, степных селений. Мои родители степняки.
5
Воздушные па (франц.).
6
Робершъдьявола.
7
От слова «талан» – «счастье», т. е. «бцдешь счастлив». (Прим. ред.).
8
Зимний мясоед: с Рождества Христова 25 декабря (7 января) до начала Масленицы (по мясопустную неделю – предпоследнее воскресенье перед Великим постом) – традиционная для Руси пора свадеб.
9
Т.е. череп.
10
Буттер – масло (нем).
11
Тередорщик (от итал. tiratore – печатник), один из рабочих, обслуживавших ручной печатный станок. Т. накладывал бумажный лист на тимпан (рама с натянутым на неё листом кожи), прикрывал его рашкетом (лист пергамента, в к-ром вырезаны отверстия по размеру полос), опускал тимпан на ковчег (подвесная каретка) с печатной формой, перемещал ковчег под пиан (нажимная плита) и, дёргая куку (рычаг), прижимал лист к форме.
12
Вершник – на Руси в старину конный наездник, всадник на службе у знатных и богатых людей, ездивший перед господским экипажем. Обычай, принятый у бояр, сохранялся в России очень долго.
13
Неглинка (Самотёка) – река в центре Москвы, левый приток реки Москвы. Длина 7,5 км, почти на всём протяжении заключена в трубу. Река дала названия многим московским улицам, площадям и станциям метро: Неглинная улица, Кузнецкий Мост и станция метро «Кузнецкий Мост», Трубная улица, станция метро «Трубная» и Трубная площадь, Самотёчная улица и Самотёчная площадь и пр.
14
Т.е. представлений.
15
Пошевни мн. – "розвальни, широкие сани, обшитые лубом", новгор. (Даль). От по́шев "корзина из коры", арханг., пошо́в – то же, вост. – русск.
16
29 июня.
17
А в Петербурге хаживали полицейские чиновники в то время в голубых мундирах с черным бархатным воротником.
18
Бурак – бумажная трубка, набиваемая горючим составом и хлопушкой (зарядом пороха), для потешных огней.





