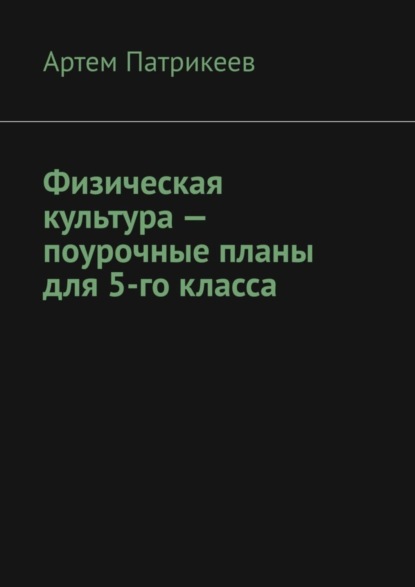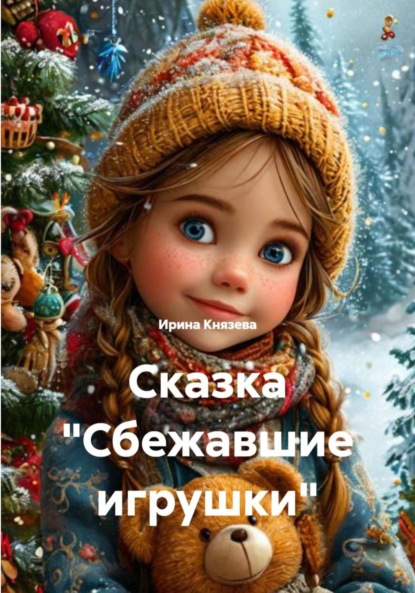- -
- 100%
- +
– То есть он… управляет Потоком? – Дан хмурится.
– Не совсем. Он не колдует, не заклинает. Он следит. Как механик за часами: подкручивает, проверяет, чинит мелкие поломки. Например, если туман начинает ползти не туда – он бросает соль с золой в нужный колодец. Если ветер сбивается с пути – чертит знак на перекрёстке. Всё по инструкции, всё по книге.
– Но почему тогда он не решает большие проблемы? Почему не остановит то, что сейчас происходит с Весной?
Барабашка понижает голос:
– Потому что его власть – в поддержании. Он не может переписать правила, не может изменить суть. Он лишь держит то, что уже есть. И если кто‑то намеренно рвёт Поток – Городничий увидит трещину, но не всегда поймёт, кто её сделал.
– А если он покинет пост?
– Тогда город начнёт рассыпаться. Фонари погаснут, границы размоются, духи выйдут из укрытий. Но он не уйдёт. Не может. Его место – здесь. Всегда.
Дан проводит пальцем по строке «О полномочиях…». Буквы на миг теплеют, будто отзываются на прикосновение.
– Значит, он… часть механизма?
– Точно. Как шестерёнка. Важная, нужная, но – не вся машина. Он не создатель, не судья. Он – хранитель этого куска реальности. И пока он на месте, город держится.
За окном снова раздаётся звон – далёкий, будто ударяют в невидимый колокол. Барабашка резко закрывает книгу. Печать на обложке вспыхивает багровым.
– На сегодня хватит. Ты ещё не всё можешь прочесть. Некоторые строки открываются только тем, кто уже слышал голос Потока.
Дан проводит рукой по обложке. Под пальцами ощущаются шрамы – следы старых печатей, стёртых и наложенных заново.
– Значит, это не правила, – тихо говорит он. – Это… предупреждение.
Барабашка кивает, поправляя сбившийся набок колпак:
– И напоминание. Город стоит, пока мы помним, где проходят границы.
– Надо разобраться, – произносит он, – чтоб не опростоволоситься. Барабашка, Вместе, – говорит серьёзно Дан. – И не только читать. Телекинез попробуем.
– Это что за зверь? – спрашивает подозрительно тот.
– Камешек сдвинуть взглядом. Чашку – мыслью. Легче, чем ворчать.
Барабашка почёсывает затылок, потом прыскает смехом:
– Эка дожил! Барабашка, значит, магию учить будет!
Дан усмехается и, чуть склонив голову, добавляет:
– Тебе, поди, скучно тут одному. Хочешь – помогай огороднику али поварятам. Дел много, рук не хватает. Приноси другим пользу. Заодно, глядишь, не до скуки будет.
Барабашка моргает, будто не ожидает такого предложения, потом хмыкает довольный:
– А ты с хитринкой, гость. Это я люблю.
Дан улыбается краешком губ:
– По согласию, – говорит он. – Ты мне – тишину держи. А я тебе – чтоб никто не гнал. И чтоб Затейница довольна оставалась.
Барабашка важно кивает, будто клятву принял.
Сверху тихо, едва слышно, звякают стёкла – знак, что дом признаёт договор.
Дан поднимает глаза на потолок, где между балками поблёскивает тонкая паутина.
– Только бы без книжных кикимор, – бормочет он. – А то ещё шишига сон наведёт, а Лесавка начнёт выпендриваться.
Он тянется, зевает и, облокотившись на печь, добавляет, будто сам себе:
– Ратибор просит помочь библиотеке. Говорит, у них там непотребство: Топорница в разнос пошла. По его словам, Топорница – страж старого договора, хранительница Рубежа, границы между живым и мёртвым, между лесным и людским. Когда‑то она была человеком – кузнецовой дочкой, мастером по дереву.
За то, что могла срезать лишнее и оставить сердцевину, её прозвали Топорницей.
Но после древнего пожара согласилась на сделку – стать человеком‑ключом, впаянным в Поток. С тех пор её душа – часть самой Библиотеки. Сидит где‑то в «корнях» здания, где сходятся все потоки знаний и памяти.
Он хмыкает.
– А Затейница просит выручить. У них, видишь ли, билеты в круиз, чемоданы платьями ломятся. Ну а я, по её словам, тот самый «избранный». Значит, с Топорницей мне и вести переговоры. По мне – небылица.
Барабашка, сидевший на лавке, скривился:
– Неведомо мне. Затейница порой что ляпнет – потом разгребайся. Я от этих дел подальше держусь. И тебе советую.
– Вот и я согласен, – усмехается Дан. – Всё это хлопоты. Но раз Городничий приютил – в долгу не останусь.
Надо в книге глянуть, что этой Топорнице надобно. Может, обида какая древняя, может, с Потоками переплелась.
Он поднимается, стряхивает с ладоней пыль.
– Эх, дел прибавляется. Придётся с чернильной нечистью разбираться.
Барабашка фыркает, жужжит, как сердитая муха:
– Гляди, чтоб она тебя не перечитала. Эти книжные – хитрее ведьмы.
Он косится на огонь в печи, потом снова на Дана и бурчит с уважением:
– Ну, коли решился – вижу, не свернёшь. Только, гость, смотри… Рубеж старый шуток не любит.
Дан усмехается, чувствует в груди непривычное волнение. С тех пор как он держал Заслон в Лесу, всё изменилось: опасность больше не пугает – будит любопытство. Теперь каждый шаг к Рубежу кажется не угрозой, а вызовом, каждый знак – загадкой, которую хочется разгадать.
– Не впервой, – отвечает он спокойно. – Зато я понимаю: там, где другие видят преграду, можно найти дверь.
Дом тихо вздыхает, будто подтверждая его слова.
Атмосфера старинной библиотеки давит на плечи, словно тяжёлые своды вот‑вот рухнут.
Полки шепчутся, сторонятся; книги сами прячут страницы, боясь взгляда. Запах пыли и старого клея смешался с болотной сыростью – след Топорницы висит в воздухе, как затхлый пар над прудом.
Дан – стоит в центре читального зала. Вокруг валяются искромсанные фолианты, обугленные листы – будто кто‑то дрался с самой памятью.
Потоки вьются вокруг него – тревожные, звенящие, – и сила под кожей ноет, требуя выхода.
Из‑за шкафа доносится хрип – тяжёлый, будто топор врезается в плоть дерева. Сначала показывается рука – из почерневшего дуба, иссечённая, прожжённая, испачканная смолой. Потом – лицо: женское, половина живое, половина деревянное. Глаза – два уголька, мерцающие изнутри. Волосы спутаны, в них запутались страницы и корешки книг.
Вот она – Топорница, страж старого договора. Та, что должна была хранить Рубеж.
Она хрипит, как раненое дерево:
– Я рубила… Рубеж держала… пока твоя невеста не пришла, – проскрежетала Топорница. Голос её был как скрип двери в бурю. – Велела: руби живое, чтоб не сбежало… Теперь сама в черту превратилась.
Дан напрягается, чувствуя, как в висках звенит Поток.
– Значит, и до тебя добралась, – тихо признает он.
Топорница дёргается, как от ожога. Топор звякает о пол, издав звук, будто кто‑то вскрыл книгу до крови.
Из трещин на её коже сочится чёрная смола – не кровь, а растопленные слова.
– Хозяин… – шепчет она, едва дыша. – Сними… Сожги, если должен…
Дан выпрямляется:
– Ядвига – ведьма , – говорит твёрдо. – Своими зельями и порочной любовью не заставит меня пройти обряд. А раз винную чарку её не испил – она мне никто. На цепь не посадила и не… посадит. От ее проклятья я избавлюсь.
Он шагает ближе, взглядом осветив её деревянное лицо.
– И ты не её слуга, Топорница. Не держи на себе чужое.
Её дыхание сбивается. Пальцы судорожно вцепляются в рукоять топора.
– Не могу… руки режут сами…
– Сможешь, – ответил он. – Болото тебя примет. Очистит, как прежде. Оно помнит тех, кто в нём спал до весны.
Он поднял ладонь, и между пальцев вспыхнул мягкий зелёный свет – живой, как росток под землёй.
– Ступай. Болото отмоет боль. Пусть оно вспомнит тебя доброй.
Топорница вскрикнула – не от страха, а как человек, отпускающий вину. Её тело пошло трещинами, осыпаясь древесной пылью.
На полу осталась зелёная лужица, пахнущая вербой и речной водой.
Дан опускает руку.
– Спи, страж. До весны.
Лужица дрогнула, втянулась в пол – и исчезла.
В библиотеке стало тихо. Полки выдохнули, лампы перестали дрожать. Всё вокруг выровнялось, ожило.
Дан проводит ладонью по лицу. Пахнет железом и полынью – а потом вдруг снова копотью, как тогда, после побега из избушки Яги. Он глубоко вдыхает, будто хочет вытолкнуть запах, но тот лишь въедается сильнее – в кожу, в память. И тут от двери прокатывается холодная волна.
Шаг. Ещё шаг.
В проёме стоит высокий темноволосый мужчина с проседью, в сером плаще, опиравшийся на посох. Воздух вокруг него чуть дрожит— словно Потоки сами прислушиваются.
Дан машинально тянется к рукаву, чувствуя, как оживают старые ожоги.
– Много шума для одного оборотня, – произносит гость ровно.
Голос негромкий, но в нём Дан чувствует течение – глубокое, как подлёдная река. Дан скашивает на пришельца взгляд, сверкает глазами. У него привычка из Леса: не связывайся, если не хочешь проблем. Молчит в ответ.
Из‑за полок показался домовой‑библиотекарь Пылигор Переплётнич – седой, как пару веков, с чернильными пятнами на бороде. Он явно не ждал гостей такого калибра.
– Э‑э… господин, всё уладили?
Дан кивнул.
– Уладил. Топорница – в болоте. Пусть перевоспитается.
Он добавляет глухо, словно между делом:
– Мне рецепт нужен. От снов.
Домовой‑библиотекарь оживляется, шепчет, глядя в пол:
– А‑а, так вы из тех, кому Морена снится. Тогда отвар из семян чертополоха, корня колыбельника да стебля усни‑травы. С мёдом не мешать – сгорите изнутри.
Дан кивает – тяжело, как человек, который запомнил не совет, а приговор.
Мужчина у дверей молчит, наблюдает. Вдыхает запах гари, идущий от Дана – не едкий, не смертный, а будто от костра, что когда‑то спас от холода. Присматривается.
Дану это внимание бесит – каждый взгляд, каждое молчаливое оценивание будто царапают изнутри.
– Лес не любит, когда в нём командуют, – произносит незнакомец.
Потоки шевелятся, словно вспоминают имя, которого он не называет вслух. Дан невольно напрягается: голос звучит знакомо‑чуждо, будто из полузабытого сна. Кто этот человек? И откуда он знает то, о чём молчат даже тени Леса?
Дан резко поднимает глаза и отвечает, сдерживая раздражение:
– А я, господин, научен – с незнакомыми, что из‑под воды да с подводных рек, дел не иметь, – бросает он и поворачивается к двери.
Домовой Пылигор Переплётнич вздрагивает от тона – не грубого, но тяжёлого, словно предупреждение.
Дверь за Даном захлопывается, будто библиотека вздыхает следом.
Велемир остаётся. Опершись на посох, он подходит к домовому.
В ответе парня звучит тот самый бархатный диапазон – глубокий, укутывающий, с тихой силой, – и Велемир сразу понимает, кого имел в виду кролик. Но паренёк, не проявив учтивости, так и не представился.
Велемир внимательно всмотрелся в собеседника и заметил: левый глаз – болотный, приглушенно‑земной, словно тинистая заводь в дремучем лесу. Правый же глаз словно принадлежит иной реальности – янтарно‑золотистый, с глубинным свечением, будто в нём тлеет уголёк из потустороннего костра. Взгляд этот не просто смотрит – будто проникает сквозь видимое, касаясь скрытых пластов бытия.
Гетерохромия. Знак дуальности мира, переплетения двух начал. В одном глазу – жизнь, рост, земная сила; в другом – тайна, древнее знание, отблеск запредельных огней.
Эта деталь словно ставит всё на свои места – теперь Велемир отчётливо видит, с кем именно имеет дело. Перед ним не просто юноша: в нём сошлись два мира, и граница между ними проходит прямо через взгляд.
– Скажи, библиотекарь… кто этот молодой да ранний?
Пылигор Переплётнич сглатывает; пятна чернил на бороде темнеют.
– Городничий в отпуске, господин Велемир. Сказал: «В отпуск, а этот юноша ему на замену». Лучше не знать.
Велемир кивает, задумчиво глядя на дверь, где только что исчез паренёк.
– Оборотень‑подросток на замене в городе… Прекрасно. Рыжий, — Придётся устраивать смотр сил, пока равновесие не рвануло.
Он касается пальцами посоха – и тот отвечает тихим шорохом, словно подземный источник, пробуждённый после зимы.
– Городничий спятил, – добавляет он глухо. – Или задумал больше, чем сказал.
Велемир медленно выходит из библиотеки, перебирая обрывки увиденного и услышанного. Запах гари, сдержанная угроза Дана, странная осведомлённость о «подводных реках» всё говорит: перед ним не просто оборотень на временной должности, а фигура, вплетённая в узор куда более древних и опасных сил. «Он не играет по правилам – значит, правила могут измениться», — думает Велемир, сжимая посох.Следить, слушать лес, ловить отголоски снов, где появляется Морена – вот что важно сейчас. И одно становится ему ясно: Дан – не эпизод, а начало чего‑то гораздо большего.
Дом дышит – тяжело, размеренно, как зверь во сне.
Шепчутся балки, полы потрескивают, будто переговариваются между собой.
Слишком много пространства, слишком много звуков.
В углу глухо перекликается котёл – тяжело, с ленивым вздохом, будто сам не знает, спать ему или кипеть дальше.
Богдан стоит посреди гостиной.
С потолка стекает мягкий свет – тёплый, золотистый, как мёд из янтаря.
В камине мерцает ровный огонь, от которого пахнет можжевельником и старым вином.На стенах книги, картины, какие‑то дорогие безделицы, которых он не любит трогать. Кажется, они шепчутся, вспоминая прежних хозяев.
Барабашка тем временем суетится у очага. Он стоит на табурете, помешивая варево в медном котле, и довольно мурлычет под нос.
На нём та самая старая занавеска – теперь вместо плаща она служит ему фартуком.
– Вот, другое дело! – бурчит он, нюхая пар. – Живёшь, как дух уважаемый: работа есть, обед вон как пахнет, даже договор официальный – не пропадёшь со скуки.
Он косится на Богдана и добавляет с довольной усмешкой:
– А ты всё хмуришься, Хозяин. Дом у тебя просторный, чистый, люди боятся, чинят, почитают – а ты будто в ссылке.
Дан ведёт ладонью по столу – дерево под пальцами было холодным, глухим, как камень.
– Слишком тихо, – говорит он.
– Тихо – значит, порядок, – наставительно учит Барабашка, не отвлекаясь от котла. – Не то что раньше: крыша течёт, полы воют, в каждой щели дух, а ты спишь в углу, как мышь. А теперь – служба, расписание, положенные варева и дежурства. Благодать!
Он с важным видом подбрасывает в котёл щепотку трав.
Пламя вспыхивает зелёным, и по комнате идёт запах усни-травы и сладкого хлеба. По комнате плывёт, расширяясь, медовый сон. Словно кто‑то растворил в воздухе каплю тёмного мёда, смешанного с пеплом от сгоревшего вереска. Аромат тягуч, как сироп: при вдохе кажется, что лёгкие наполняются вязкой, тёплой дымкой. В нём есть что‑то убаюкивающее – будто шёпот сквозь толщу воды.
Запах медленно обволакивает, словно бархатная пелена, приглушая звуки и размывая очертания предметов. Он не спешит – растекается неторопливо, капля за каплей, заполняя каждый уголок сознания. С каждым вдохом мир становится мягче, а веки – тяжелее.
В этой сладостной гуще тонут мысли: они уже не стрекочут, как прежде, а плывут, словно листья по сонному ручью. Запах дышит с тобой в унисон, задавая ритм – медленный, гипнотический, от которого сердце бьётся ровнее, а время теряет счёт.
Он не просто пахнет – он говорит. Без слов, но ясно: «Расслабься. Забудь. Просто дыши». И ты дышишь – всё глубже, всё покорнее, погружаясь в эту медовую безмятежность, где нет тревоги, нет края, нет пробуждения.
Дан морщится.
– Травы не те.
– Тебе всё не те. Усни-трава иначе не пахнет. Топорницу утопил – славно. А вот теперь отвар твой бы не переварить, – отмахивается Барабашка. – Договор подписал, место закреплено, а ты будто чужой. Привыкай, Хозяин, привыкай.
Сон не идёт. И запах трав только злит – напоминает болотную стужу, где голоса всегда что‑то шепчут.
– Не досмотрю – сгоришь изнутри, – брюзжит Барабашка.
– Молчи, – рыкает Богдан, но без злобы. – Устал.
Пламя в очаге вздрагивает. Воздух идёт волной – не холодом ночи, а чем‑то иным, будто само время вздыхает.
Барабашка настораживается, уши его дёргаются.
– Ох, пошло… – бормочет он. – Опять кто‑то шастает.
Из угла, где не было ни света, ни тени, проступают два облика девочек с дыханием вечности. Обе тонкие, прозрачные, как дыхание на стекле.
Одна – с венком из сухих трав, другая – с песочными часами, где песок течёт вверх.
– Спаситель… – их голоса звенят, будто лёд трещит на реке. – Ты нас оставил.
Богдан напрягается, пальцы невольно сжимаются.
– Я вас не звал.
– А мы не могли не прийти, – говорит младшая, Феба, с часами..
– Нас ловят. Мучают, – подхватывает другая. – Говорят, время – им принадлежит. Меняют наш порядок.
– Ой‑ой… опять эти, с Управы Временных Дел? – шипит Барабашка, впрыгивая на подоконник. – Я их знаю! Ходят, всё переписывают: кому цвести, кому мёрзнуть, кому во сколько всходить! Нет чтоб сидеть смирно…
Он осекается, поймав взгляд Дана, и съёживается.
Но девочки его не слышат.
Они стоят у камина, и тени от них шевелятся отдельно, будто само время под ногами течёт не туда.
Старшая – Лина, с венком из трав, – смотрит на Дана: в глазах блестит песок, как золотая пыль в утреннем ветре.
– Река забыла путь. Весна опоздала. Корни глохнут – не слышат воды.
Он устал, учредил испытания на поиск Хранителя. А мы… тебя хотим. При тебе всё шло по согласию.
– А мы теряем силу, – добавляет Феба. – Мы ведь твои, Хозяин. Без тебя – нас сотрут.
Богдан сжимает кулаки. В груди нарастает глухое эхо – древнее, тяжёлое, подобно голосу из недр земли.
– Я не звал вас, – повторяет он, но уже тише. – Не моё теперь дело. Я не вами управляю да и никогда не управлял. Договора между нами нет. Я ушёл. Мне пришлось – чтобы не вешать на вас мои проблемы. Когда разберусь – тогда…
Он не поднимает головы. Сжимает и разжимает руку.
– Мне нельзя вмешиваться, – говорит он. – Не моё теперь дело.
– Почему? – тихо спрашивает Феба. – Кто решил?
Богдан усмехается коротко, будто обжёгшись.
– Когда тебя хоть раз сажают на цепь, – говорит он, – потом сам обходишь всё, что хоть немного похоже на ошейник.
Он не смотрит ни на них, ни на огонь.
Пламя колыхается, отражаясь в зрачках – как напоминание о том, что бывает, когда теряешь контроль.
Лина шагает ближе, и воздух дрожит.
– Мы не просим подчинения, – тихо говорит она. – Нам не нужен хозяин. Спаси нас. Нам нужно, чтобы нас услышали.
Она поднимает глаза – ровно, без мольбы.
– Ты же и есть тот, кто умеет слышать.
Дан не отвечает.
Под полом снова шевелится глубина – будто вода под землёй тянется к нему, узнавая.
Не зов – ещё нет. Просто первое дыхание весны, то самое, что предвещает половодье.
Он сжимает пальцы, чувствуя, как под ногами затаивается отклик – тихий, но упрямый, древний.
Земля его помнит, даже если он сам пытается забыть.
– Хватит, – выдыхает он глухо. – Я не возвращаюсь. Город – моё теперь. На год. Бумаги, руны, посты. Пусть порядок держат те, кому он нравится.
– Порядок не держат за горло, – Лина не двигается. – Нас душат, чтобы не дышал.
Феба опускает голову, песок в её часах застыл.
– Они ломают время, – шепчет она. – Оно трещит. Мы тоже.
Дан закрывает глаза.
Он чувствует, как память встаёт между ним и мгновением – не жалость, а память о тех, кто клялся жить по согласию. Пламя в очаге дрожит, и в воздухе мелькает запах сырой земли – живой, тёплой, весенней.
И он понимает: если шагнёт назад – треснет всё. Но если не останется – треснет он.
Феба шагает вперёд, и воздух дрожит, будто становясь теплее, живее.
– Не вмешивайся, – говорит она. – Мы почитаем тебя подходящим.
Ты не власть – ты живое течение.
При тебе всё дышало, как должно: вода шла к корню, ветер знал, где лечь, а время текло без пут и уз. Помоги нам вспомнить, как это было.
Она замолкает – и добавляет тише, почти со страхом:
– Эти… испытатели, что поставлены на твоё место… они всё ломают. Им дали время – а они режут его по частям. То ускорят, то свернут, то держат, пока не истлеет. В лесу цветы зацветают по приказу, потом вянут, не успев открыться. У реки теперь два русла – одно для отчётов, другое для настоящей воды. Они не слышат нас. Они всё считают.
Лина подходит ближе – и от её шагов пол под ногами тихо стонет.
– Их сила выдуманная, – говорит она. – Не согласием держится, а страхом.
Время у них, как зверь на привязи. Оно рычит, рвётся – скоро сорвётся.
Дом тихо скрипит – будто вздыхает в лад с её словами. Пламя в камине качается, вытягивается, и на миг кажется – в нём дрогнул силуэт: молодой, как весенний росток, и старый, как сама земля.
Дан опускает голову.
Под полом шевелится глубина – не зов, ещё нет, а первый, осторожный вдох земли, что будто спрашивает:
«Проснёшься – и что потом?»
В воздухе становится тесно.
Барабашка осторожно вылезает из укрытия.
– Ну, Хозяин не Хозяин… а всё равно к тебе приходят, – пробурчал он. – Хоть ты их и не звал. Спасителем кличут.
Дан не отвечает.
Пламя в очаге вытягивается вверх – будто вслушивается вместе с ним.
Он смотрит на пламя и думает: равновесие рушится – значит, опять кто‑то решил быть богом. Не Ядвига – так эти исправители вселенной, что ломают под видом исправления. А ночью всё равно придёт она – проверять, не сдался ли.
Древний зал Испытаний, расположенный глубоко под городом, представляет собой величественное помещение с высокими сводами, украшенными рунами и древними символами.В центре зала находится сложный магический круг из особого камня,способного накапливать и распределять магическую энергию. Каменные колонны, покрытые резьбой с изображениями стихий и их взаимодействия, поддерживают рунный купол магический свод, усиливающий и контролирующий потоки энергии.
Воздух в зале всегда кажется тяжелее обычного: время течёт иначе, а в углах шепчутся привязанные к месту духи и сущности. Это место идеально подходит для проведения важнейших магических испытаний.
Велемир Ярович занимает место в высокой ложе в западной части святилища. Просторное кресло с высокой спинкой, обитое тёмно‑изумрудной тканью, возвышается над залом, позволяя видеть каждую деталь. На специальном постаменте лежит его посох, а защитные руны, выгравированные на полу, мягко светятся.
Его взгляд цвета талого льда устремлён на магический круг, где разворачивается главное действо. Пальцы нервно постукивают по посоху, выдавая внутреннее напряжение.
Велемир Ярович наблюдает. Не то чтобы его волнует фаворит – нужно найти преемника и отойти от дел.
Соискателей‑участников испытаний семеро: высокие, облачённые в серебристые одежды, с символами стихий на груди. На их плащах лежит холодный блеск магических печатей.
Каждый представляет свой круг – огонь, воду, воздух, землю, тень, порядок и память.
Испытание должно определить главного Хранителя – того, кто возьмёт на себя баланс Града и мира за пределом.
Велемир внимательно следит за тем, как семеро претендентов пытаются установить новый порядок. Они не подозревают, что истинная сила равновесия кроется не в контроле, а в умении слышать голос природы и уважать древние законы, существовавшие задолго до первых магических печатей. Духи места шепчутся в углах, руны светятся ровно.
Звучит семь имён:
Айра Лунская – преемница Ветромана, магистр Воздуха и Путей;
Мирта Камнеградская – хранительница Земли;
Савелий Огнев – ученик огненного братства;
Иллер Тиховод – дух Воды;
Малька – хранительница Тени;
Хорин Часовщик – дух Времени;
Мира Ровенская – дочь Равновесия.
Семеро встают в свои круги печатей. Руны светятся – и они входят в магический круг.
Они пытаются «упорядочить» течение часов, сбалансировать потоки стихий, заставить их служить людям.
Равновесие скоропостижно протестует: тонкие щели побежали по своду купола.
Велемир нахмуривается. Что‑то идёт не так – сама ткань мира дрожит, словно живая.
Двери с оглушительным грохотом бьются о стены – и в зал врывается юный рыжий полуоборотень. Велемир Ярович невольно задерживает взгляд: «Тот самый, из библиотеки. Сколько ему полных лет?» Тело парня перестраивается на ходу – плечи расширяются, мышцы наливаются нечеловеческой силой, кожа натягивается, готовая прорваться под натиском звериной сути. Шапки нет: растрёпанные волосы вздыблены, словно шерсть взбешённого зверя. На щеке – свежий порез, из которого сочится кровь, но он будто не замечает раны.
Это уже не просто ярость – это дикая, безудержная ярость. В нём нет ни капли расчёта, лишь чистый, необузданный напор, от которого воздух будто сгущается. Каждое движение даётся с трудом, но он не замедляется – только рвётся вперёд, словно сам воздух перед ним должен расступиться.