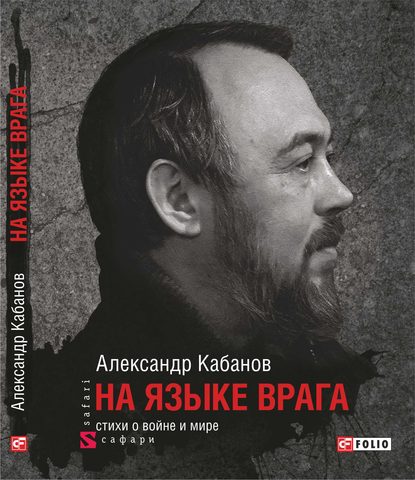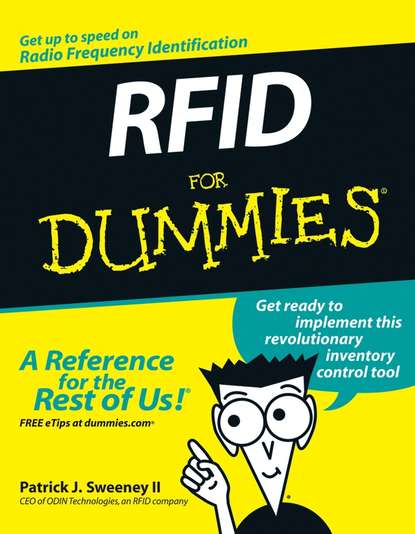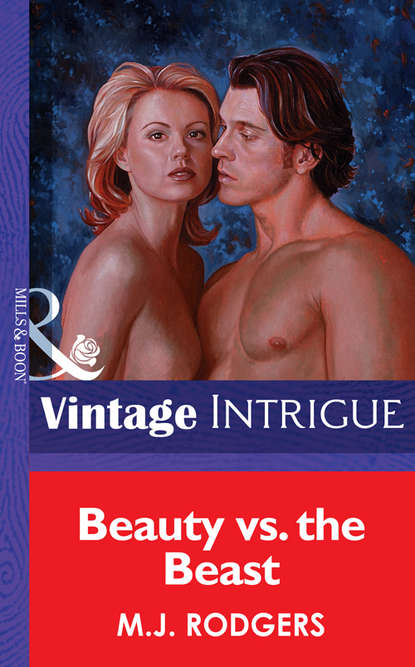- -
- 100%
- +
Лицо – маска необузданной силы. Усталость отступила, сметённая звериным напором. Глаза пылают нечеловеческим светом: один – болотный, живой, земной; другой – янтарно‑жёлтый, с пульсирующими светящимися прожилками – тенью проклятия Морены и потусторонней силы. В их взгляде нет разума – только инстинкт, только жажда действия.
Когти на руках полностью выдвинулись, острые, как бритвы. Ботинки на ногах продырявлены насквозь – ступни уже наполовину звериные. Вдоль рук и спины пробивается густая рыжая шерсть, вздымающаяся в такт тяжёлому, хриплому дыханию. Он не идёт – он мчится, рушит, сметает. В каждом шаге, в каждом взмахе руки читается одно: не останавливайся, рви, бей, вперёд.
Велемир напрягается. В этом юном полуоборотне он видит не просто перерождающееся существо, а стихийную силу – неукротимую, опасную, готовую снести всё на своём пути. В его ярости есть что‑то первобытное, древнее, будто сам лес проснулся и обрёл плоть, чтобы заявить о своём праве.
Но страшнее всего – челюсти. Они удлинились, сомкнулись с глухим щелчком, и в узкой пасти стали видны задние коренные зубы: массивные, с бугристой поверхностью, словно созданные для дробления костей.
Опытные хранители столбенеют: они узнают эту хватку. Не волчья ярость, не медвежья мощь – а холодная, расчётливая свирепость – повадка росомахи. Пришелец не отпустит. Не потому, что зол, а потому, что иначе не умеет.
Никто здесь его не знает. Никто не ожидает.
Воздух густеет, будто пропитываясь силой. Велемир уже чувствует: внутри этого зверя шевелится беспокойная, дикая мощь.
Полуоборотень шагает вперёд – и сам воздух дрожит, словно натянутая струна. Тени в глубине леса сгущаются, будто прижимаются к стволам, боясь привлечь внимание.
– Что ты забыл в моём лесу, жалкий огонёк? – прорыкивает он, глядя прямо на Савелия. Голос звучит низко, с хрипловатым подвыванием, от которого по спине бегут ледяные мурашки. – Ты меня не ублажал, не угощал, ни дара, ни откупа не приносил.
Савелий пытается возвести огненную защиту – воздух мерцает, проступают алые нити пламени. Но оборотень отметает ее, не глядя: его губы растягиваются, обнажая длинные желтоватые клыки.
– Ну это… необходимо… – выдавливает Савелий, с трудом удерживая зрительный контакт.
– Не обрезать по осени, не укрыть корни перед зимой, а сжечь? Что за необходимость такая? – Полуоборотень скалится, делая шаг вперёд. Ветки под его ногами не хрустят – лес сам уступает ему путь, словно боится сломать хоть один сучок под его ступнёй.
– О, какое благородство! Явился без приглашения – и спалил без спроса моё поле розового тумана. Между прочим, вереск очень медленно растёт. Зачем об этом думать, правда? Если можно все жечь напропалую. Та‑то безумствующая жрица тоже огненные баррикады возвела, а ты, гляжу, решил ей подражать… Пугаешь? Думаешь, страшно? Отнюдь. Со мной фокус не работает. Вот напасть для тебя, да? Захочешь сжечь меня – а сгоришь сам. Вас, невежд, по‑другому учить не выходит.
Он медленно поднимает руку – между пальцев завился едва заметный дымок.
– Видишь? Твой огонёк здесь служит мне. За моё поле розового тумана я…
Из тёмных углов доносится испуганный ропот – будто сам лес шепчет, предостерегая.
– Савелий весной посадит тебе новый вереск. Мы проследим, – мягко, но твёрдо говорит Феба.
Полуоборотень на миг умолкает, затем, чуть понизив голос:
– То‑то же. Я розовый хочу. Барабашка сказал, убережёт сны. Спасибо, Феба.
Он кивает, будто ставя точку, но в глазах ещё тлеет не высказанный вызов. Дан медленно опускает руку. Дымок тает в воздухе. В его взгляде ещё читается напряжение, но тон становится ровнее – не уступка слабости, а осознанный выбор.
– Знаешь, что необходимо? – произносит он, и в голосе звучит уже не гнев, а холодная, выверенная угроза. – Чтобы ты запомнил: здесь не ты зажигаешь огонь. Здесь не ты решаешь, кому гореть, а кому – тлеть. Иначе…
Он улыбается – медленно, почти ласково. Но в этой улыбке нет тепла: только блеск клыка, только тень древней, неумолимой силы.
– Иначе твой следующий костёр станет твоим погребальным.
Савелий пытается отступить – но земля будто схватывает его за сапоги, не отпускает. Воздух густеет, пропитанный запахом мха, сырой земли и чего‑то звериного, первобытного. От кипящей в нём ярости полуоборотень вздрагивает, чуть колышется всем телом. Он делает ещё шаг – и тень от его фигуры, вытянувшись, накрывает Савелия целиком.
– Отдохните и подумайте со своей ветреной подружкой, что сбила сезонные потоки, о Равновесии и о неприкосновенности чужих вещей, – говорит он негромко и взмахивает рукой.
Маг‑огненник рассыпается тушью страниц и исчезает. Та же участь постигает и ветроманку Айру Лунскую.
– Полюбуйтесь на звёзды, – произносит полуоборотень. – Там пусто, тихо, и никто вам не помешает, – Два круга печатей дружно трескаются, печати ломаются пополам – на месте двух магов зияет пустота.
Потоки звенят вокруг рыжего полуоборотня, будто струны лука, и ветер поднимается из ниоткуда.
Хорин мечется, высекая из воздуха клинок времени – тонкое, как надлом на стекле. Но оборотень поднимает ладонь – просто, без усилия – и удар отбрасывает Часовщика назад, словно щепку на бурной реке. Время хрустит, рассыпается искрами. Хорин врезается в колонну. Песок из его часов рассыпается по полу, мерцая, как слёзы.
– Не суйся, старик, – произносит полуоборотень.
В его голосе шумит лес – листвой, бурением корней, тяжёлым дыханием подземных вод.
– Я развязал твой узел. Ты вообще в курсе, когда наступает Зима? Еще раз покроешь землю снегом раньше календарного декабря, задумавшись о потоках моего Леса – заклинит твои шестерёнки, и сам перемелешь себя в пыль. Он прищуривается. В гневе глаза его превращаются в два непохожих очага пламени: болотный вспыхивает холодным, режущим светом, а янтарный запылает густым, медовым огнём, в котором извиваются светящиеся прожилки – словно паучьи лапы, пытающиеся вырваться наружу.
Хорин лежит у колонны, дрожа, тщетно пытаясь подняться. Песок медленно собирается обратно в колбу, но тикают часы с перебоями – как больное сердце.
По залу проносится шорох: страх пробегает по кругу. Мирта Камнеградская прижимает руки к груди, Иллер отступает в тень, а Малька и Мира не смеют дышать.
Руны на полу вспыхивают, гудят с ревом.
Полуоборотень поднимает взгляд. Потоки дрожат вокруг него, послушные, как звери перед прыжком.
Феба шагает вперёд:
– Не трогай их. Они исправят ущерб, – голос её дрожит, но она не отступает.
Он останавливается. Смотрит долго, не мигая. Ветер стихает. Потоки затихают, будто выжидают. Лишь теперь в его глазах мелькает усталость – не сомнение, а тень того, кто слишком долго держит равновесие в одиночку.
Когда, наконец, говорит, голос становится ниже, плотнее – будто камень звучит изнутри земли:
– Не трогай? Есть одна проблема: с чего твои помощнички решают, что я дозволяю менять мои лесные потоки? Трогать мой каштан посевной?! – звучит угрожающее гортанное рычание, в нём проскальзывает подростковая ломкая нота. – Деревья выпустили почки в октябре. Феба, ты не в курсе что ли? Снегирей не пускают кочевать, медведей в шатунов обратили – чтоб бродили без сна. Ёлки стоят чёрные, без инея. Снега – то оползни, то провалы! Мой вереск сожгли! Дрозды‑рябинники, свиристели, щуры перемерли без ягод!
Он медленно поднимает руку – воздух сгущается, и руны вспыхивают под сапогом Велемира. Голос полуоборотня становится глухим, низким, как далёкий гром.
– Это ты зовёшь порядком? В моём лесу без моего спроса камень не перекатится, ветка не дрогнет! Кто посмел вязать лесные потоки?! Всех истреблю! Слышите? Думать не смейте о моём Лесе! Я вылечил мой каштан, удобрил. И что? Не для свиней мои фрукты! Мой розовый туман сожгли! Мой ручей испоганили! Не туда сунулись – я запрещаю касаться Равновесия моего Леса. Сотру и вас, и след ваших деяний. Пришелец угрожающе рычит и вдруг поднимает руку.
Он делает шаг – и воздух оседает, как под давлением ветра.
От рунических кругов идут тонкие расколы – не разрушение, а удовлетворённый отклик.
Лес соглашается, одобряет его угрозу, – тяжёлым шорохом листвы, что звучит даже сквозь камень.
Феба прижимает ладонь к груди, а Лина – к виску, будто от боли. Обе чувствуют: его сила не просто взыграла – она зовёт ответ, из самой глубины Равновесия, где даже духи не имеют права говорить первыми.
Его зрачки на миг утопают в светящемся вихре. Сила взметается – и магический круг целиком подмигивает и мерцает.
Он медленно опускает руку.
– Вот и всё, – говорит он тихо, почти устало. – Я предупредил. Доведёте – стану тигром. Тогда не взыщите: загрызу всех и дискутировать ни с кем не стану.
Потоки не гаснут – они слушают. Воздух дрожит, будто сам дом прислушивается.
Руны под ногами дышат, как живые, и от их дыхания по полу бегут тонкие жилки узора – не разрушение, а пробуждение.
Травы в венке Лины шелестят, как под ветром, которого нет.
Феба первой улыбается – тихо, как вспышка света на воде.
– Вот и ты, – шепчет она. – А мы думали, ты уснул.
В её часах песок идёт вспять – ровно и спокойно, будто время само приняло решение.
Лина не отступает.
– Ты злишься – значит, помнишь, – говорит она, шагая ближе. Воздух вокруг неё звенит, как стекло перед грозой.
Велемир ощущает: под поверхностью мира пробегает дрожь, словно корни иссохшей земли молят о воде.
– Лес без тебя, Дан, дышать разучился. Год долгий, – шепчет Лина. – Когда же ты вернёшься?
– Дышать? – фыркает полуоборотень. – Да кому я тут нужен? Вы сами науправляетесь на славу! Я на кладбище не вернусь, так и знай. Какие там у вас планы: всех угробить? В городе мне найдётся занятие – и год, и два переживу. Только не лезь мне в потоки. Не ты мне указывать будешь. Если кто станет цепи вешать – сама в пепел пойдёт.
Он склоняет голову, и по губам скользит усмешка – не добрая, не злая, а хищная. Руны под ногами вспыхивают зелёным пламенем; воздух гудит, будто буря рвётся наружу.
На миг Велемиру кажется, что его дом – не дом, а лес, и стены вот‑вот растрескаются, как кора под молнией.
Велемир стоит, глядя сверху вниз, – но впервые за века ощущает себя ниже.
«Это мой зал. Моя земля. Почему слушаются его?» – мелькает у него в голове.
Круги не отзываются. Они звенят не на его зов, а на зов мальчишки.
Он пытается собрать силу, но воздух сопротивляется. Потоки времени идут не к нему – уходят в Дана, как река в новое русло. Не захват и не воровство, а что‑то большее: будто сама власть решила сменить хозяина.
Велемир не понимает. Кто он теперь – хранитель или просто временный управляющий? Или это бунт Потоков – дикий зверь, выросший на его земле?
Если он решит повернуть Потоки – ни один маг не удержит. Даже сама Ядрана Даждьевна, быть может, не вмешается: ведь в нём её дыхание, и в то же время – чужое, древнее, от самого каменного сердца мира.
Феба, кажется, понимает происходящее лучше, чем он. В её глазах читается не только удивление, но и признание власти. Она стоит неподвижно, готовая по первому слову Дана стереть следы вмешательства Велемира.
Лина же, напротив, сияет, словно наслаждаясь сменой. Её довольство ощутимо – как предвкушение обновления.
Оборотень усмехается, поворачивается спиной, словно закрывая дверь.
– Хранителей в моём доме не будет, – говорит оборотень тихо, и от его слов руны тускнеют, соглашаясь. – Замечу – изничтожу. Самим поработать никак? Один в отпуск сваливает, другая в уши музыку льёт. С Костяной кто свяжется – Мору скормлю.
Он шагает прочь. Не исчезает – уходит, шаг за шагом. И каждым шагом зал тускнеет: свет стекает по стенам, будто его вытягивают вслед. Руны гаснут, воздух густеет.
Велемир понимает: с этого дня ему придётся искать способ вызволить тех, кого тот отправил в Предел. И, что хуже, – разобраться, кто теперь правит на его земле.
Он стоит, чувствуя, как внутри медленно холодеет. Зал Испытаний, где веками не звучало ни дыхания, ни чужой воли, теперь живёт другой силой. Камень под ногами остыл, потоки молчат – не откликаются на его зов, будто выбирают, кого слушать дальше.
Тишина давит. Даже духи, вечно шепчущиеся в углах, притихли, втянув голоса в каменные щели. Велемир оглядывается: руны, прежде послушные, теперь кажутся чужими – словно шрамы на коже некогда живого существа. «Это мой зал», – снова думает он, но уже без прежней уверенности.
Слова Дана звенят в голове, как разбитое стекло: «Хранителей в моём доме не будет».
Велемир сжимает посох. Дерево под пальцами кажется мёртвым – ни тепла, ни отклика. Впервые за столетия он ощущает себя не владыкой, а гостем в месте, которое считал своим.
И Велемир понимает: отныне дом, что он созидал, слушается иного – того самого мальчишки из леса, с глазами разного цвета и без его права на покой, пока он не поймёт в чём дело.
Велемир вспомнил домового‑библиотекаря. Тот тогда бормотал что‑то про «временного городничего»… И вот теперь, стоя в опустевшем зале, Велемир с горькой ясностью осознает: временным оказался он сам.
Зал ещё хранит запах жжёной травы и соли – след силы, что больше ему не принадлежала. Камень под ногами остывал, круги молчали, будто выбирали, кому теперь внимать.
– Прекрасно, – холодно произнёс Велемир. – Значит, теперь у нас рыжий самозванец с доступом к Пределу.
Он разворачивается к стражам у входа. Их лица напряжены, но никто не решается заговорить первым.
– Всех выпавших из Испытаний – искать немедленно, – голос Велемира дрожит, и вместе с ним содрогаются стены. – Если кто‑то оказался за границами круга – вернуть. Живых, мёртвых, тенью – не важно.
Из тени выступают трое дозорных – молчаливые, с глазами, в которых плещется время. Они склоняют головы и растворяются в воздухе.
Велемир останавливается, чуть прищуривается, глядя туда, где только что стоял незнакомец. Зал стихает. Лишь дым от погасших рун тянется к сводам. И в этой тишине Велемир понимает: Потоки не вернутся. Не паренёк из библиотеки их отнял – они сами выбрали. Сила отозвалась на чужой зов, словно вспомнила давно забытого хозяина.
Он стоит неподвижно, чувствуя, как под камнем уходит опора – не физическая, а та, что веками держала равновесие. Круги молчат. Мир дышит не им.
Велемир выдыхает. В этом выдохе нет поражения – лишь тишина. Почти покой.
Оборотень уходит, не претендуя, не отрекаясь – просто уступив место тому, кто должен появиться.
Впервые за долгие годы Велемир ощущает не гнев, а тревогу. «Неужели власть над временем может сменить хозяина без ведома тех, кто её создал? Или… она сама выбирает, кого слушать?»
Мысли кружатся, как опавшие листья в осеннем ноябрьском вихре. Он вспоминает первые дни, когда только начинал возводить этот зал: камни ложились под его рукой, руны загорались по его воле, а духи мест приходили на зов. Теперь всё изменилось.
– Невероятно… – выдыхает он, глядя на потухшие руны.
– Как оборотень, выросший в моём лесу, сумел обернуть в свою сторону саму ткань Соглашения? – Руны молчат. Даже время в Зале будто застыло, не решаясь выбрать сторону. Велемир чувствует: равновесие трещит не от нарушения, а от пересборки. И это пугает его сильнее, чем любой бунт.
Он проводит рукой по воздуху – пространство дрожит, прорезавшись холодным эхом. Сжимает кулак, чувствуя, как под кожей пробегает холод силы.
– Если это не бунт или ошибка, – тихо говорит он сам себе, – я, выходит, лишний. Не понимаю, что происходит.
Руны не отвечают. Воздух чуть дрожит словно от далёкого, едва слышного смеха. Вопросы роятся в голове, но ответов нет. Лишь ощущение надвигающейся бури и понимание: мир, который он знает, рушится на глазах.
И ведь не исчез паршивец, дабы явить силу – повернулся и ушёл. Не исчез – именно ушёл, шаг за шагом, как живой. С каждым его шагом зал тускнел. Свет стекал по стенам, будто его вытягивало следом. Руны гасли, печати рушились, воздух густел. А он шагал прочь, оставляя за собой гул, будто сама ткань времени провожала своего господина. Когда дверь за ним закрылась, в зале осталась не тишина – выжженное место. Руны ещё тлеют, словно угли, но огня уже нет.
Велемир стоит неподвижно, глядя туда, куда ушёл оборотень. Воздух вздрагивает – не от ветра, от присутствия.
Время и Равновесие возвращаются бесшумно, без формы, но ощутимо. Они знают: он потребует ответа.
– Что это было? – спрашивает Велемир. Голос его звучит глухо, как шаг в подземелье.
Феба первой поднимает глаза. Её свет тускл, как луна перед рассветом.
– Он разгневался, потому что хранители всё перепутали. Сожгли его вереск, свиньи съели его каштаны, а Часовщик пробудил его каштан посевной. Зимой, – говорит она прямо. – Он не спал – он пришёл. Мы сами позвали. Хранители спорят, вместо того чтобы слушать. В его лесу все иначе: он не приказывает – советуется. Всё по согласию – и с нами, и с землёй, и с ветром. Мы позвали, потому что он умеет слышать.
Без него равновесие дышит рвано: время идёт то вспять, то вразброс, Мор бродит, как беспризорный. Ты не сердись. Дан просто устал. Он должен был спать. Лина шагает вперёд, глаза у неё блестят – не угрозой, а правдой: Мы спустились – поспрашивали в лесу. Дан обычно спит зимой, в дупле каштана. А они пытались посадить его на цепь. В Город вынудили уйти, будто без его воли. Сказал – на год. Теперь сердится, обещает на два. Кто его выгнал? Твои Испытания ему поперёк горла встали. Порядок – это когда всё дышит в своё время, а не по приказу.
– Дан? – Велемир вскидывает голову. – А имя у него есть? Что это за обломок? Откуда у него сила уйти с моих Потоков? На год? Про больший срок я оставлю без комментариев. Это невозможно.
Феба дрогнула, шагнула ближе, будто удерживая дыхание.
– Мы пришли не просить прощения, – сказала она, глядя прямо на Велемира. – Для Дана всё возможно. Мы чувствуем сдвиг. Всё идёт наперекосяк – время, ветер, корни. А он… он не позовёт. Никогда. Такая у него натура – сначала всё на себя возьмёт, потом сломается молча.
Она прищуривается, глухо добавив:
– Мы думали, ты хоть поймёшь, что происходит. Кто его обидел?
Она молчит, потом хмыкает – будто вспоминает что‑то и забавное, и страшное одновременно:
– И при этом он грозился скормить кого‑то Смерти. Будь покоен: если твои Хранители – хоть теневик, хоть моя дочь – дёрнут Потоки без спроса, он исполнит обещание.
Феба чуть улыбается – устало, по‑женски:
– Ягу он людоедкой зовёт. И, если честно, я начинаю думать – не зря. Всё это, наверно, её козни.
Велемир не сразу отвечает. Вспоминает рассказ кролика у каштана посевного. Имя Яги будто отзывается в нём эхом чего‑то древнего, с привкусом забытого страха. Он вспоминает запах жжёной травы, дрожащий воздух у старого кургана и смех – звонкий, как стекло, режущий по сердцу.
Он опускает взгляд. Руны под сапогом едва тлеют, как угли, не решаясь угаснуть.
– Людоедкой… – повторяет он медленно, будто пробуя вкус слова. – Смешно. Она всегда питалась не плотью, а глупостью.
Он замолкает, сжав ладонь – и в воздухе чуть звенит, будто что‑то тонкое, стеклянное или временное, лопается. На миг перед глазами вновь встаёт тот курган: полынь, чертополох, дрожащая от зноя пелена. И её голос, вкрадчивый, как шелест сухих листьев: «Ты всё ещё думаешь, что можешь удержать эту силу?».
Велемир резко выдыхает. Руны вздрагивают, будто от удара, и на мгновение вспыхивают багровым.
– Я разберусь, – говорит он наконец. Его голос ровный, почти спокойный, но от этого звучит страшнее.
Он стоит, глядя, как Феба и Лина отступают, их свет гаснет меж ветвей. Слова о Дане звенят в ушах, будто кто‑то чужой коснулся его Потока.
Не Хранитель, не дух, не человек… А кто тогда? Он жил в его лесу, пользовался его силой, но никогда не кланялся. В этом было что‑то нарочитое – не просто непокорность, а сознательный отказ признавать порядок вещей.
Велемир сжимает пальцы в кулак. В воздухе снова проскальзывает едва уловимый звон – будто натянутая струна дрожит на грани разрыва. Кто он? Этот вопрос пульсирует в висках, требуя ответа.
Велемир не терпит непонятного. А сейчас непонятное не просто стучится в двери – оно уже вошло и заняло место у его очага. И хуже всего то, что лес, кажется, принимает молодого полуоборотня, который мог, но не использовал огонь. Древний зал испытаний приветствовал его не как гостя, а как хозяина.
Он разворачивается и направляется к Библиотеке – туда, где хранятся следы старых клятв и имена, которых нельзя произносить вслух.
Воздух внутри густой, тёплый, пахнет пылью, железом и чем‑то сладким, как переспелые травы. Тьма дышит медленно, переливаясь в щелях между полок.
Домового‑библиотекаря Пылигора Переплётнича – косматого, сварливого, с глазами, как две капли смолы, – нет.
На пюпитре остаются только свёрнутые заметки, обрывок пера и чашка, от которой ещё поднимается тонкий пар: чай остывает, но не забывает тепло рук.
– Прекрасно, – бормочет Велемир, опираясь о стол. – Когда нужен – всегда в отлучке.
Из глубины зала, где воздух плотнеет и темнеет, доносится шорох. Потом – тихий, обиженный голос:
– Не кричи, хозяин. Чернила пугаешь.
С невидимой им с места у пюпитра полки, затерянной где‑то в середине книжной стены, с тихим вздохом вековой пыли съезжает толстая, истрёпанная временем амбарная книга. Её обложка, когда‑то крепкая дубовая доска, украшенная резьбой, повторяющей причудливые узоры коры старого дуба теперь рассечены извилистыми бороздами, словно карта морщин на лице старика. Пожелтевшие страницы источают слабый запах пыли и сушёной травы, а чернила, некогда чёткие, выцветают и блёкнут, словно угасающие воспоминания. Амбарная книга подвигает уголками переплёта, будто плечами, и становится на край стола.
– Здрав будь, господин Велемир. Домовик в Пределе – счета сверяет, бумаги чинит. А тебе, стало быть, чего надобно?
– Мне нужно знать, кто такой Дан. Не кличка – имя. Почему он в списках Городничего, кто его привёл и откуда у него право на Потоки?
Книга тяжело шелестит страницами, словно вздыхает всем телом.
– А‑а‑а, Дан… – произносит она медленно, перелистывает себя, будто суставы разминает. – Верно говоришь. Рыжего, новоявленного Городничего так зовут. Сколько нынче за такие тайны платят, а? Господин Хозяин.
– Хочешь заплату? – прищуривается Велемир.
– А что? За такую весть, глядишь, и новую застёжку на переплёт выхлопочу! С серебром! И чернил получше! – фыркает книга, уголки переплёта качаются, будто плечи. – Не всё ж вам, великим, по доброте людской. Чернила нынче дорогие, память сохнет, а мне бы пропитку да сторожку от пыли. Или хочешь, чтоб я, как Ядвига Морена, душу себе пером скребла?
– Ты и о Морене слышала? – спрашивает Велемир.
– Ха! – хмыкает книга, страницы дрожат, как от смешка. – Слышала, видела, да пару раз и перепугалась. Баба‑то яд да зуб! Жадь в ее сердце вселилась – и спать не даёт. Кому должок напомнит, кому жизнь перепишет.
Она будто вспоминает что‑то, и голос её становится тише, осипает:
– А уж если кто с ней не в ладах… – шелестит книга, да так, чтоб мыши не донесли. – Ты в курсе, что намедни случилось? Рыжий Городничий, на смену явленный, от гибели нас всех тут избавил. Уж считала – всё, конец… Угадай, кто ей поперёк встал?
– И цену ты хочешь, чтобы рассказать мне про мальчишку? – спрашивает Велемир.
Книга шумно переворачивает страницу, раздражённо шуршит:
– А как же! Не деньгами, конечно. Дай слово – перепишешь мне корешок, свежей кожей обтянешь. Застёжку новую на переплёт поставишь, чтоб сведения не уворовали. А то я, бедная, всё в старом переплёте, трещу.
– И только за это заговоришь?
– А то! – слащаво поёт она, чуть жаля. – Может, ещё и про твои контры повспоминаю. Или напомню: кто первый за твоей шеей тень послал, пока ты в людском обличии бродил, воюя?
Велемир молчит и кивает головой, соглашаясь.
Амбарная книга перелистывает внутри себя страницы с радостным шелестом, по чернилам на переплёте проходит отблеск.
– Слышала я то сама – от сторожевой свечи, что в читальном зале всю ночь горела. Она ведь болтливая, когда воск до донышка догорит. Рассказывала, будто ведьма Ядвига всё хочет себе его Потоки переломить. Не сворожила как надобно, или, может, Дан смекалистее оказался – чары не легли, не взяли. Про чарку говорил, ту самую, винную. Не выпил он её – не поддался, отказал. А значит власти над ним они с Бабой-ягой не возымели. А она, поди ж ты, взъелась – в подвал его хотела загнать, на цепь в погреб, как Марья Морена Кощея встарь держала. А Ядвига, ведьма – злючая, ох, злючая! Шепнула Топорнице в ведьмовский час: «Руби живое, чтоб не сбежало!» Хотела руками Топорницы его загубить. А он нашу Топорницу вразумил – диво дивное! Не сжёг, хоть может и надо было, а в болото послал очищаться – будто каникулы ей устроил. Вернётся, гляди, отдохнувшая, похорошевшая. Эх, завидно‑то как! Хоть и напугала она меня вусмерть… Он Топорницу в болото вогнал. Да не руками – Потоком. Повернул силу Леса против неё, и болото само раскрылось, как пасть. Я‑то думала, конец нам всем: она меня уж на щепу пустить собиралась, сучья баба.