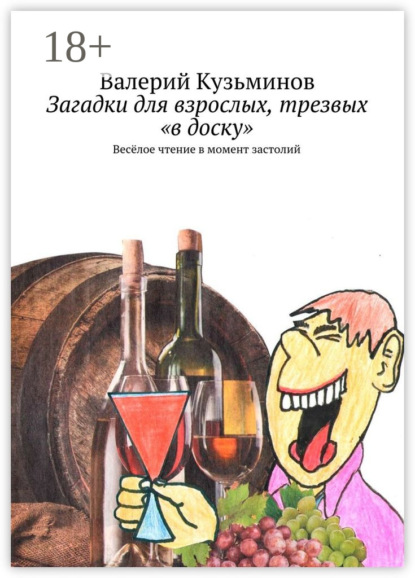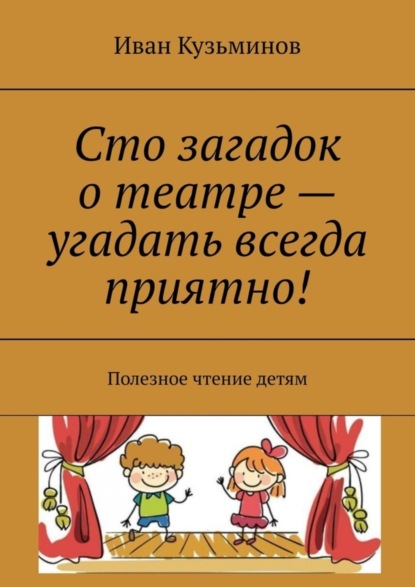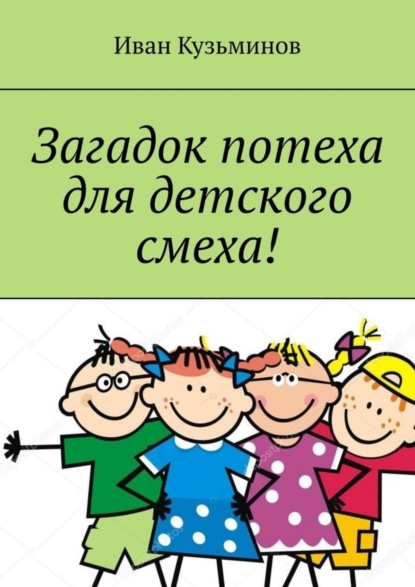- -
- 100%
- +
У Даши и мешочек заветный при себе был, и палочки особенные, любимым тятей излаженные в виде маленьких ложечек. Девчачьи палочки, чего уж там, а крючок удобный – прямо по руке её. И играть она любила, словно дитя малое, а не девица на выданье.
– А ну расступись! – скомандовала она ребятишкам, высыпая перед ними свои ложечки. – Кто на этот раз меня победить сможет? – спросила она.
Мальчишки радостно загалдели. Ещё ни одному из них не удалось обойти ловкую девушку, но они не огорчались, ведь после игры она щедро угощала их берёзовым жваком, который умела делать её бабушка. Жвак Даша носила в тряпице, завернув его в тряпочку, и не жалея одаривала им детишек, не делая меж ними различий.
– Может, и меня в игру возьмёте? – раздался весёлый мужской голос за спинами усевшихся прямо на землю игроков.
Оглянувшись, дети и Даша увидели перед собой врача местного ветеринарного участка. После учреждения в Шадринске земства, уезд был разделен на два больших ветеринарных участка, один из которых находился в Далматово.
Возглавлял его серьёзный, тридцатичетырехлетний Владимир Петрович Попов. Был он среднего роста, имел пышную шевелюру и бороду, голубые глаза и часто прятал озорную улыбку под шикарными усами. Работы в городе хватало. В одном монастыре содержалось скотины больше тысячи голов, не считая города с округой. Да и болезни животных не обходили их тихий городишко.
Мелкие скотопромышленники, закупавшие скот подешевле в неблагополучных местах и перегонявшие его в Далматово, часто заносили с ним чуму, поражавшую местных животных. Падёж скота в этом случае был так велик, что больные животные продавались беспрепятственно каждому желающему их приобрести, что лишь усугубляло ситуацию.
Одного врача на огромный участок явно не хватало, и Владимир Петрович мотался по сёлам, чтобы хоть как-то предотвратить эпидемии ящура, сапа, чесотки и бешенства, осматривая скот перед продажей. Он только что приехал из Теченского, где бешеная собака крестьянина Лобова искусала хозяина, двух соседских мальчишек, свинью с выводком поросят и пятнадцать собак разных владельцев. Детей и хозяина собаки пришлось отправить на лечение в Пермь, свинью заколоть, а покусанных собак уничтожить. Владимир шёл от наместника монастыря, где просил помощи в постройке здания ветеринарной амбулатории в городе, когда услышал детские голоса и заразительный, звонкий смех.
– Может, и возьмём, – ответила ему Даша, смело глядя на мужчину. – Проиграть не боитесь?
– Я в этой жизни уже ничего не боюсь.
Владимир Петрович присел перед кучкой ложечек на корточки и потянул крючком одну из них – игра началась. Вскоре догадливые ребятишки отошли в сторону, наблюдая, как соревнуются меж собой взрослые, и огорчённо взвыли, когда в руках у врача оказалось ложечек больше. Заветный жвак, раздаваемый Дашей, мог так и остаться в её мешочке.
– Вот так-то! – довольно сказал Владимир Петрович, как будто одержал самую большую победу в своей жизни. – Это вам не в бирюльки играть! – обратился он к Даше, не обращающей на него внимания и всматривающейся вдаль.
Там, в юго-восточной части города, поднимался чёрный дым.
– Пожар! – выкрикнул кто-то из мальчишек, и вся стайка рванула туда.
– Беда, вот беда! – сказал Владимир и вздрогнул, услышав тревожный звон колоколов на монастырской звоннице.
Пожары были обычным явлением в то время, несмотря на меры, принимаемые Шадринским уездным земством, такие как: создание пожарных дружин, оснащение их техникой. Причины пожаров всегда были одни и те же: людская халатность, худые печи и трубы, скученность деревянных построек, поджоги да изредка удары молний. Но этот пожар стал особенным, такого разгула огненной стихии не видели даже старожилы.
Начался он на задворках купца Гагаева, где нерасторопная хозяйка выбросила золу из бани в огород. Потухший с виду уголь вполне себе начал шаять и, разносимый порывистым северо-западным ветром, учинил своё чёрное дело. Стена огня пронеслась по улицам, сметя на своем пути сто шесть дворов вместе с хозяйственными постройками и квартирой станового пристава. В огне сгинул девяностолетний старик, и умер от разрыва сердца двадцатидвухлетний парень. К счастью, многие в тот день находились на сенокосе, а скот пасся на пастбищах, иначе больших жертв было бы не избежать.
Пожар не коснулся ни дома, ни лавки родителей Даши, но оставил в ней навсегда страх перед огнём. А ещё этот день стал началом большой любви между ней и ветеринарным врачом, всё-таки добившимся от земского собрания постройки здания ветеринарной амбулатории.
Клиника была небольшой, с конюшней и передней, где Владимир на особом столе проводил вскрытия мелких, страдавших бешенством животных. Даша разбила возле амбулатории огород и сад с невиданными цветами. По её же просьбе был вырыт колодец для их поливки. Вскоре к врачу присоединились фельдшер и аптечный практикант, помогавшие ухаживать за выздоравливающими животными.
Владимир Петрович Дашу любил и не раз проводил для ребятишек лекции в школе, куда она пошла работать. Про бирюльки девушке пришлось забыть, но иногда, когда их никто не видел, они доставали заветный мешочек и ложечки. Впрочем, Даше так и не удалось выиграть у Владимира по-настоящему, разве что только тогда, когда он специально ей поддавался, а случалось это каждый раз, когда они начинали играть.
* * *
Вспоминая свои сны, яркие, словно смотрела фильм, Надежда Григорьевна спешила на свой участок, чтобы открыть небольшую тепличку – день обещал быть жарким. Задумавшись, она не заметила машину бывшего мужа, притормозившего рядом, и вздрогнула, когда он громко посигналил.
– Садись, поговорить надо, – сказал он, опустив стекло с пассажирской стороны.
– Всё уже на сто раз сказано! – отрезала Надя, делая шаг назад.
– Всё да не всё! Или ты меня боишься? – усмехнулся Андрей. – Я, как помнишь, не кусаюсь.
– Вот ещё, стану я тебя бояться, – ответила бывшему мужу Надя и быстро села в машину. – Говори, что хотел, у меня ещё дел много!
– Короче, ты бы мать свою успокоила уже! Достала, млин! Названивает нам, к Лике на работу припёрлась, жалобы какие-то строчит, в налоговое целое письмо накатала, что я таксую!
– Мама? – удивилась Надя.
– Мама, – передразнил её Андрей. – Только не делай вид, что ты не в курсе, небось вдвоём придумали, как меня доставать! Главное, не пойму, что вам от меня надо? Ну разлюбил я тебя, и что? Мало ли мужиков из семьи уходит, что это – трагедия века? Устроили, понимаешь, кордебалет!
– Первый раз об этом слышу, мама ничего мне не говорила. Я даже не знаю, зачем она это делает!
– Ты овечкой-то не прикидывайся, не знает она! Короче, вправь своей мамаше мозги, иначе я за себя не отвечаю! А теперь шагай. У меня, между прочим, тоже дела имеются!
Надя долго смотрела вслед пылившей по дороге машине, силясь понять, что ей сейчас сказал Андрей. Нет, с мамой у неё всегда были непростые отношения, не сложилось меж ними тесной связи, какая бывает меж дочерью и матерью, но чтобы так, за спиной? Тут явно что-то не то, и с ней необходимо срочно поговорить. Надежда развернулась и, забыв про теплицу, отправилась к дому матери.
После того как Надя с Андреем перевезли маму к себе в село в отдельный дом, они много в нём изменили. Обновили крышу, выстроили новую баню, снесли и поставили новые заборы, убрали старинную русскую печь и подвели к дому газ и воду. Наде хотелось, чтобы мама чувствовала себя в Язовке так же комфортно, как в родном селе Ясном, где она была так счастлива с мужем, пока он слишком рано не ушел в мир иной.
К сожалению, нередко с лица земли исчезают целые деревни и села. Разные причины способствуют этому, но одна из главных, с чего начинается упадок – отсутствие работы. Молодежь и те, что стоят на ногах попрочнее, разъезжаются, остаются самые упёртые и старики, доживающие свою жизнь в родных домах. Вот и в деревне, где родилась и выросла Надя, приказал долго жить колхоз, державший молочную ферму и пилораму. Враз ставшие ненужными здания продали, а то, что не успели загнать за бесценок, растащили по домам предприимчивые жители. Поначалу они хорохорились: ничего, дескать, проживём и без колхоза, не ранешнее время, – но сначала районная администрация закрыла детский садик – всё равно ребятишек нет; чуть позже, по этой же причине, прихлопнули школу, начав возить желающих учиться в соседнее село. Постепенно из села ушло всё благополучие, закрылась почта, медпункт и клуб, где работала мама Нади, и дома чёрными, пустыми рамами грустно зияли в надвигающейся осени.
Каждый раз приезжая в гости, Надя звала мать с собой, но старушка сопротивлялась, кивая на сельское кладбище, мол, как уедешь, когда все родные тут лежат. Согласилась она на переезд лишь тогда, когда скорая помощь не смогла пробиться к ней через снежные заносы, и она чуть не умерла от внезапно поднявшегося давления.
Не все люди могут легко покинуть своё насиженное место и прижиться на новом, вот и Лариса Сергеевна страдала, не зная, куда приткнуться в чужом для неё селе, проводя время у телевизора и доставая дочь своими капризами.
Надя привычно толкнула створку новеньких ворот и вошла во двор материнского дома. Ещё в прошлом году они с Андреем соорудили здесь небольшой навес, чтобы, выйдя из баньки, можно было насладиться чайком. Посаженный осенью девичий виноград к лету разросся, давая тень, а яркие петуньи в горшках радовали глаз. Проходя к навесу, под которым сидела за столом мать, Надя прищурилась от яркого солнца и прикрыла рукой глаза – рядом с матерью кто-то сидел. Это было так неожиданно, ведь Лариса Сергеевна предпочитала одиночество. Каково же было удивление дочери, когда она увидела рядом с мамой льстиво улыбающуюся Тамару Петровну.
– Ой, Надюшенька пришла! – засуетилась коллега, отодвигая от себя любимую кружку Нади, из которой пила чай. – А мы тут засиделись с Ларисой Сергеевной, заболтались. Побегу, пожалуй, Ларисочка, дела, дела. На днях зайду к тебе, а ты с доченькой пока пообщайся, – заискосила гостья в сторону ворот, бросив на столе недоеденную булочку.
– Мама? – Надя, убедившись, что Тамара Петровна ушла, брезгливо, двумя пальчиками, взяла свою кружку и, вылив из неё чай, поставила тут же – в импровизированную мойку.
– Что она здесь делала? Ты же знаешь, какая она! Я сто раз тебе рассказывала!
– Перестань кричать и сядь! – приказала дочери Лариса Сергеевна. – Ничего плохого Тамара не делает, она просто хочет, чтобы Андрей вернулся в семью, и у нас с ней есть план…
– Какой ещё план? – обессиленно выдохнула дочь, пытаясь собрать мысли в кучу.
Оказывается, сделав ставку на Лику и свою будущую благополучную жизнь после того, как она сойдётся с Андреем, Тамара Петровна жестоко ошиблась. И заскрипела зубами от злости, когда услышала слова родственницы в ответ на просьбу свозить её до города:
– У нас своих дел невпроворот, – сказала Лика, уводя под руку Андрея, когда он вышел для разговора с Тамарой Петровной на крыльцо. – А до города маршрутка ходит, ну или попросите кого-нибудь, за деньги, – она голосом подчеркнула последнее слово. – Вас любой свозит.
Тамара неохотно расставалась со своими кровными, а потому разозлилась, но себя сдержала – как-никак родня. Потом молодые проигнорировали её просьбу помочь с посадкой картошки, отказались участвовать в помочи, когда Тамара решилась поменять крышу на доме. И, хотя Андрей вроде как не отказывался помогать, каждый раз рядом оказывалась Лика и рушила все планы родственницы.
Сойдясь с Андреем, она словно поднялась на пьедестал и терпеть назойливую, не пойми кем ей являющуюся, как она считала, Тамару, не стала. Все советы по обустройству своего новенького дома игнорировала, более того, дала понять Тамаре Петровне, что ей вовсе здесь не рады. Тут и вспомнилось Тамаре, что отправили родственники девушку в село от греха подальше не просто так – образ жизни, что вела Лика раньше, доконал всю её родню. Вздорная, заносчивая Лика не могла долго удержаться на одном месте и отовсюду увольнялась со скандалами, вечно вляпываясь в некрасивые истории, которые боком выходили всей родне.
– Ах ты финтифлюшка! – ругала Лику Тамара Петровна, лихорадочно придумывая, как прибрать строптивую девицу к рукам.
Была Тамара не из тех, кто будет терпеть нанесённые ей обиды. Привыкшая командовать бессловесными учениками, она терпеть не могла, когда ей перечили, и указать взбалмошной девице её место стало для Тамары Петровны делом жизни. Ущербным людям, обделенным любовью, добротой, сочувствием, приходят в голову больные мысли.
«А если сделать так, чтобы Андрей бросил Лику и вернулся в семью? Куда она с ребёнком на руках денется? Опять ко мне приползет, – думалось Тамаре Петровне бессонными ночами. – А потом я помогу его опять вернуть назад. Да девка на меня молиться станет!» – лихорадочно мечтала она, не понимая, что в затеянной ею игре участвуют живые люди, а не пешки.
– Ты поэтому Андрея звонками достаешь? А зачем ты жалобу на него написала? Чего ты этим хотела добиться? – спросила Надя.
На столе ещё лежали угощения, принесённые гостьей – твёрдые, словно камень, засохшие пряники.
– А что плохого, если ты снова станешь замужней, а у твоей дочери появится отец? – хорохорясь ответила Лариса Сергеевна, слегка струсив в душе от сердитого голоса дочери.
– У Лизы и так есть отец! От того, что мы с Андреем развелись, он не перестал им быть! Да, она ещё в обиде на него и, возможно, в тайне мечтает, что мы снова будем вместе, но это невозможно! Я предательства не прощаю, мама, и ты прекрасно это знаешь! Я тебя прошу: оставь Андрея в покое и не общайся с Тамарой Петровной – она нехороший человек.
– А с кем мне общаться? Ты раз в день забежишь и всё, Лиза вообще ко мне дорогу забыла, живу здесь как отшельница. В Ясном у меня хоть друзья были, а здесь что?
– Ну какие друзья, мама? Те, что на кладбище, что ли? Ты забыла, что на нашей улице только ты и осталась и больше никого? Да там на всё Ясное три дома жилых и было, а ты всё никак мне простить не можешь, что я тебя в Язовку перевезла. Мам, ты же не старая совсем, вон какая красивая, ты же ещё замуж выйти можешь и быть счастливой, – Надя подсела к матери на скамейку и обняла её. – А на Лизу не обижайся, я сама её практически не вижу – к танцевальному конкурсу готовится. Домой придёт и без сил на кровать валится, словно на ней черти воду возили. Хочешь, сходим на мою дачу, посмотришь, что там выросло?
– Говорила тебе, сажай всё здесь, а ты заладила – своё, своё, словно у матери тебе прокапало.
– Да я и посадила всего ничего, только чтобы земля не пустовала. Есть у меня мечта, мама, – свой дом хочу выстроить! Знаешь, просторный такой, чтобы в нём всем дышалось легко! А ты с нами жить будешь, выделим тебе самую большую и светлую комнату!
– Скажешь тоже, – улыбнулась Лариса Сергеевна, спихивая с колен выросшую Мурку, которую когда-то нашла Лиза. – Нет уж, два медведя в берлоге не живут. Пойдём в дом, там сейчас передача Малышевой начнётся, не хочу пропустить.
– Вот и поговорили, – тихо вздохнула Надя, поднимаясь за ней следом.
* * *
Даша несла к столу миску с квашеной капустой и ругалась про себя – опять муж с отцом вцепились друг в друга. А всё политика, будь она с этого света проклята. И ведь как мирно всё начиналось в этот четверг, в Семик, как его называли, праздник перед Троицей.
Накануне женщины украсили свои избы берёзовыми, смородиновыми ветками, собрали в лесу кукушкины слёзки и другие цветы, изобильно цветущие на зауральских лугах, затыкая их за иконы, наличники окон. Мужики в это время ставили срубленные в лесу берёзки к каждому окну и у крыльца. У ворот всегда ставили столько берёзок, сколько было у них столбиков – как правило, три. Молоденькие берёзки втыкали даже в огороде.
Всё Далматово наполнялось берёзовым духом, ведь молодой зеленью украшали помещения монастыря, ставя деревца и возле главного храма. Испокон веков далматовцы считали, что освящённые в церкви берёзы защищают от грозы. Пол в домах устилали свежескошенной травой, и три дня в избах не подметали, «чтоб не тревожить землю, воздух и воду», которые в это время были «именинницами». Из травы же, которой застилали пол в монастырском храме на Троицу, опосля делали подушки, которые (как утверждали старожилы) помогали при головной боли.
А ещё в этот день молоденькие девушки от двенадцати до семнадцати лет в тайне ото всех плели венки и завивали берёзки. Для этого на отдельных деревцах девушки скручивали веточки колечком и завязывали цветным лоскутком или ленточкой, загадывая на себя, на своего дружка (если таковой имелся) и на всех членов семьи. Плели косы из берёзовых веток и смотрели: если коса разовьётся – замуж идти. А ещё, желая узнать свою судьбу, завязывали «воротца», соединяя берёзки между собой вершинками через дорогу или приплетая их к траве. Существовало поверье: если берёзки разойдутся, то загадавшая на них девушка выйдет в этом году замуж.
В семицкий четверг поминали умерших неестественной смертью – утопленников, удавленников, убиенных и так далее. Это был единственный день в году, когда по «заложным» покойникам служили панихиду в церкви. Был такой и в семье Акулины, вот поэтому Степан, муж Ксении, и Владимир, муж Дарьи, вернувшись с панихиды и изрядно напоминавшись, спорили, сидя за столом, друг с другом о реформе Столыпина.
– Вот ты мне скажи, Владимир Петрович, на кой ляд разрешили хутора да отруба организовывать? Ты по уезду много ездишь, повидал кое-чего, много хуторян встретил? То-то же оно! – громко говорил в запале Степан, стуча кулаком по столу.
Раскрасневшееся бородатое его лицо блестело от пота, дневная жара только спадала, и в доме Мылтасовых было душно.
– Ты бы поел, Стёпочка, – вклинилась в разговор Ксения, ставя на стол капусту. – Закусил бы вот, скоро уж новую квасить будем, последнюю с ледника достала.
Но мужику было не до еды. Ноябрьский закон Столыпина от 1906 года о разрешении выхода из общины внёс не только в деревенскую, но и в городскую жизнь настоящую смуту, ведь отрубники и хуторяне ставились правительством в более благоприятные условия, нежели общинники, и это не давало никому покоя.
– Слыхал я, что провалились планы-то, – вступил в разговор Владимир Петрович, подцепляя руками запашистую капусту и отправляя себе в рот. – Многие хуторские участки назначены в продажу за невзнос ссудных платежей банкам. Вот в Ново-Петропавловском был недавно, у Назимова Михаила Викторовича, тот татарский омуток в двадцать десятин у общины в отруб взял да на тыщу сто девяносто три рубля тридцать шесть копеек ссуды под залог земли решился. А прошлое лето, помните, засушливое было, урожая не было, а банку хошь не хошь отдай! Ему всё едино, неурожай ли, али какая другая беда приключилась – отсрочки не получишь. Так Назимов от безысходности в петлю полез. Хорошо, что младший сынок увидел и тятю спас. Вот такие дела!
– Да что вы накануне Троицы разговоры такие ведёте! – теперь уж возмутилась Даша, помогая матери складывать одежду в сундук. – Или поговорить больше не об чем? Ты, Володя, хотел тяте помочь потребительское общество своё открыть, а сам только горазд капусту трескать!
– Ты, доча, в мужские разговоры не лезь! Шибко грамотная стала! – приструнил её отец и продолжил, повернувшись к зятю: – Говори, что там у тебя?
Хоть и хулил Степан реформы правительства, а новые веяния добрались и до заштатного Далматово. Люди начали открывать кредитные товарищества для выдачи займов и вступать в потребительские общества, добровольно объединяющие простых людей труда – кооператоров, которые совместно трудились и самостоятельно управляли хозяйством. Первое такое общество было открыто в селе Широково, и Владимир Петрович, как ветеринарный врач много ездивший по волостям, воочию видел, как оно работает. С этой идеей – создать потребительское общество – он и пришёл к Степану, владевшему на тот момент лавкой, мельницей и кузней и имевшему хорошие гроши за душой.
– А мне какой доход с твоей затеи? – лениво процедил хозяин, отхлёбывая из кружки квас. – Мне и так неплохо живётся.
– Как ты не понимаешь, тятя, – опять вмешалась в их разговор Даша. – За кооперацией будущее! Доходы с торговли увеличатся, заготовительная деятельность в городе вся твоя будет! – горячо затараторила она, боясь, что отец её прервёт и заставит замолчать. – Откроешь магазины, начнёшь покупать у крестьян дрова, сено, продукты и единолично продавать в Далматово, закупишь сельскохозяйственный инвентарь и, главное, на почёте и уважении жить станешь!
– У бабы волос долог, да ум короток, – осадил её Степан. – Не доросла ещё, чтобы отца своего уму-разуму учить!
Но по морщинам, появившимся на лбу отца, Даша поняла: он задумался, и слова дочери его заинтересовали.
– Хватит балаганить! – прервала их разговор Акулина. – А вам, – обратилась она к Даше и её мужу, – к родному крыльцу пора, а то до утра базлать будете, споря ни о чём.
– Подождите, я вам гостинчик соберу, – бросилась к дочери Ксения, не ожидавшая, что они так быстро уйдут. Акулину побаивались все и спорить не решались, даже мужчины.
Гости распрощались с хозяевами и неспешно отправились домой, дыша терпким, берёзовым духом, наполнившим город. Приближалась Троица.
Троица (Пятидесятница) отмечалась на пятидесятый день после Пасхи в честь и в прославление Святой Троицы и в память сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день шли в лес всем городом. И хотя Акулина, Ксения и Дарья давно вышли из возраста, когда гадают на свою судьбу, но каждая из них помнила, как в этот день, с утра, девушки с парнями сламывали ветки берёзы и делали из них венки, по которым гадали, называя имя человека. Если венок быстро, буквально тут же, завял – то человек, на которого он был загадан, будет болеть (или умрёт, или выйдет замуж), если не завял – всё будет хорошо. К счастью, такие берёзовые венки могли продержаться до самого вечера. С этими венками они шли дальше к Исети, где их бросали с моста или лодки, часто стоя спиной к воде. При этом загадывали: «Куда поплывет – туда и замуж, потонет – к беде».
У Даши в своё время венок кружился на одном месте, что и понятно – её муж приехал в Далматово издалека. А вот венок её подружки плыл рядом с венком её будущего мужа, и вскоре они обвенчались. Как бы странно это ни выглядело со стороны, но к гаданиям всегда относились серьёзно. Акулина, укладывая спать дочь, а потом и внучку, рассказывала о случаях, когда бросавшие неудачно венки девушки впоследствии похоронили столько мужей, сколько утонуло венков, и маленькая Даша очень боялась, что её постигнет такая же участь.
В берёзовой роще на окраине города, возле Исети, после спускания на воду венков устраивалась общая трапеза, собиравшая всех жителей Далматова. Здесь пили пиво, чай, ели принесённую с собой стряпню, но главным угощением были варёные яйца (крашенные луковой шелухой, богородской травой и берёзовыми листьями) и яичница, которая называлась «селянкой». Акулина, Ксения, Дарья расслабились и не обращали внимания на Степана и Владимира – они и здесь продолжали свои разговоры о кооперации, собирая возле себя мужиков. Мужики шумели, размахивали руками, падали в сердцах на траву картузы.
Молодёжи было всё нипочем. Они устраивали хороводы, игры, пляски, пение под гармонь, катание на лодках по реке, разводили костры, через которые прыгали. Играли в разные игры. Люди постарше вели неспешные беседы и издалека наблюдали за тем, как развлекались другие. Они украшали и «кормили» берёзку, поставив перед ней все угощения, какие ели сами.
Вечером, возвращаясь домой, горожане брали деревце с собой и оставляли берёзку на краю города для защиты. А в селах, близ города, Троицу встречали по своим традициям: в Уксянском водили по деревне «куклу» из вырубленной берёзки, наряженную в кофту и юбку с серёжками в ушах. Когда доходили до местной реки Уксяночки, снимали с неё одежду, надевали венок и бросали в воду, приговаривая: «Пресвятая Богородица наша, мы тебя пускаем, чтобы ты спасла всех на свете и весь мир, спаси и помилуй нас!» В Ключах подружки наряжали девушку, давая ей в руки берёзку, вели по улице и пели:
– Берёзонька кудрявая! Вот где ты росла, повыросла? На солнышке, на вёдрышке!
Шли на яр, затем бросали венки в воду и расходились.
И конечно, как и любой крупный праздник, Троица не обходилась без поминовения предков. В Троицкую субботу после церковной службы далматовцы неспешно шли на кладбище, где устраивали поминки («троицкие родители»). С собой приносили крашеные яйца, «панахиду», булочки, блины, сыпали на могилу крупу. Раздавали милостыню детям, нищим и старушкам, сидевшим возле кладбищенских ворот и ходившим между могилками.
Акулина долго сидела возле могилы мужа, не забывала навестить и Павлу Асафовну, коллегу и подругу, нашедшую покой за оградой Николаевской церкви.
В понедельник после Троицы, по существовавшим поверьям, земля была именинница, поэтому трогать её не разрешалось. Нельзя было копаться в огороде, играть чижиком, бегать по земле, плевать и оправляться на землю (повсеместно). Существовала примета: если в Троицу забить гвоздь – дождя долго не будет. Непредсказуемая природа Зауралья нередко оставляла людей без дождей, поэтому чаще всего на Троицу (или незадолго до нее) они начинали молить Бога о дожде. Как правило помогал в этом деле крестный ход. Из монастырских стен выходила процессия во главе с настоятелем, состоявшая зачастую из всех жителей города. Длинная процессия обходила город по кругу и направлялась к Исети, где иконы устанавливались на столы или скамьи и служился молебен. Как правило, после крестного хода обязательно шёл дождь.