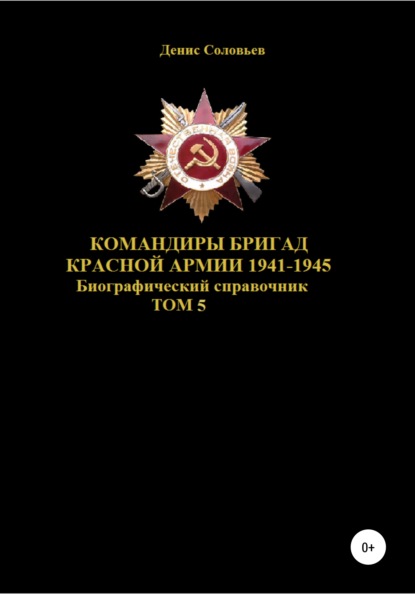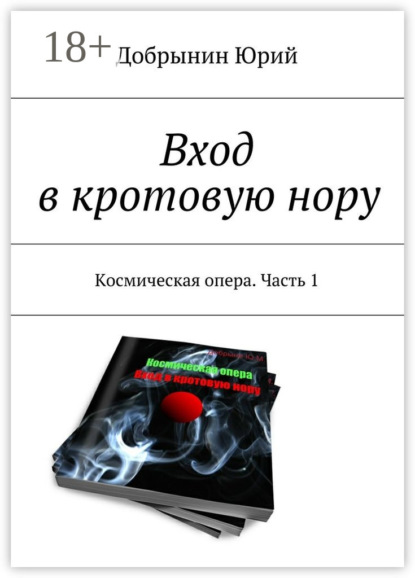Древнейшая история Руси: как оно было!
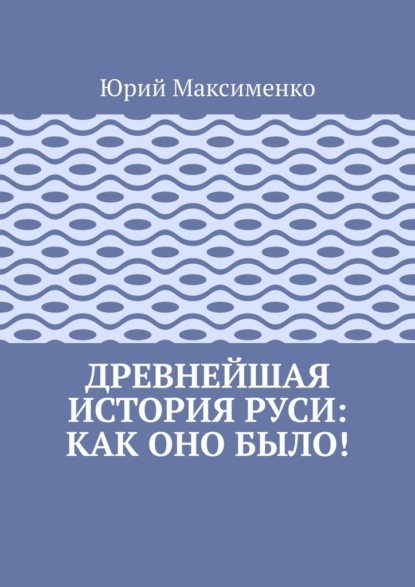
- -
- 100%
- +
Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет непосредственное отношение к древнейшей истории России [абсолютно верно], а русский народ и его язык напрямую связан с исчезнувшей или растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной гиперборейцев [Гиперборея не исчезла и не растворилась в океане, она была и следы её остались по северному побережью Евразии, она просто замёрзла в 10 тыс. до н.э., поэтому её и покинули арии]. Неспроста ведь Нострадамус в своих «Центуриях» именовал россиян не иначе как «народом гиперборейским» [откуда, интересно, он знал об этом?].
Рефрен русских сказок о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять земель, – также представляют собой воспоминания о стародавних временах, когда наши предки соприкасались с гиперборейцами и сами были гиперборейцами [верно18]. Имеются и более детальные описания Подсолнечного царства [наиболее яркий пример в этом отношении – «Сказы Захарихи» – были, судя по всему, Дёмину не известны]. Так, в былине-сказке из сборника П. Н. Рыбникова рассказывается о том, как герой на летающем деревянном орле (намёк на все тех же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное царство:
Прилетел он в царство под солнышком,Слезает с орла самолётногоИ начал по царству похаживать,По Подсолнечному погуливать.Во этом во царстве ПодсолнечномСтаял терем – золоты верхи,Круг этого терема был белый дворО тых воротах о двенадцати,О тых сторожах о строгих…Другое свидетельство, зафиксированное многими авторами, в том числе Н. М. Карамзиным, А. Н. Афанасьевым и А. А. Коринфским, касается легендарного Лукоморья. Оказывается, это не сказочная страна, невесть где расположенная, а древнее Северное царство, где люди на два месяца впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца. Понятно, что Подсолнечное царство – это не только царство полярного Солнца, но и царство полярного льда, память о котором закодирована в фольклорных символах.
Внимательно просмотрим волшебную русскую сказку «Хрустальная гора» из сборника Афанасьева. Здесь тридесятое царство наполовину втягивается в хрустальную гору (что наглядно воспроизводит действие наступающего ледника). Но главное в другом: чтобы спасти гибнущее царство и заточенную в хрустальной горе царевну, герой добыл волшебное семечко, зажёг его и отнёс к хрустальной горе: она и растаяла. Растопить подобным образом, как не трудно догадаться, можно только лёд и никак не хрусталь (стекло).
Русские исследователи фольклора справедливо усматривали в сказочной стеклянной (хрустальной) горе отголоски общеарийской мифологии – воспоминания о вселенской горе Меру [см. карту Меркатора, указание на Меру в Сказах Захарихи]. В известной словацкой сказке о солнечном коне также подробно описывается полночная страна, где люди приспосабливались к ночной жизни среди гор и боролись со тьмой с помощью волшебного коня с Солнцем во лбу. Как бы ни трансформировался сказочный сюжет за свою долгую жизнь – он неоспоримо свидетельствует об одном: прапредки славян [?19] знали о такой стране за полярным кругом, где царит долгая ночь и бушует нескончаемая буря. Современное русское слово «буря» имеет арийские корни: bhurati в древнеиндийском20 означало – «двигается», «вздрагивает», «барахтается». Но в достопамятную старину «буря» произносилась и писалось как «боуря» (с юсом малым21 на конце). Вот он и Борей – северный ветер. Известен ещё один синоним «ураганного ветра», одного корня со словом «буря» – «бора»: так именуют ураган на море и турки, и итальянцы, и русские.
Согласно Татищеву, в утраченной Иоакимовской летописи упоминается князь Буревой, отец легендарного Гостомысла, который правил в Новгороде до появления Рюрика и упорно боровшийся с варяжской агрессией [всё верно]. Кстати, о самом Рюрике сохранилась народная легенда, не совпадающая с летописным преданием: звали его Юриком, родом был из Приднепровья, не раз наведывался в Новгород, где и приглянулся новгородцам; те пригласили его покняжить [данная выдумка не соответствует историческим реалиям], но разве могли предположить, что Рюриковичи станут правителями Земли Русской больше чем на шесть веков.
Или взять Сивку-бурку – откуда такое словосочетание? Если Сивка (светлая), то почему Бурка (тёмная)? Не зебра же ведь это, у которой полоска – чёрная, полоска – белая. Все дело оказывается в том, что прозвище Бурка первоначально звучало, как Бурька. А если взглянуть на его истоки, то обнаруживаются явственные следы Борея. Обратившись тёмногривым жеребцом, Бог-покровитель Севера оплодотворил двенадцать кобылиц и стал отцом двенадцати чудесных жеребят, что могли летать по поднебесью над землёй и морями. Такими их описывал ещё Гомер в «Илиаде» (XX, 220—230). В русском же фольклоре они прозываются Сивками-бурками, Бурушками-косматушками, что, в конечном счете, значит —22 Бурьки-Борейки. Между прочим: до сих пор имеет распространение славянская23 фамилия Борейко24 (вспомним героя-поручика из романа А. Н. Степанова «Порт-Артур).
Нельзя не вспомнить и древнегреческое25 название Днепра – Борисфен. А европейские мореплаватели: добравшиеся в XVII веке до устья Печеры, столкнулись на побережье Северного Ледовитого океана с туземцами-борандийцами26. Да и в скандинавском названии северо-восточной страны от Беломорья до приполярного Урала – Бьярма (Biarmia), от которого произошло название Пермь, улавливается искажённое имя Борея27. Крылатый чернобородый Бог Борей считался эллинами сыном Астрея (Звездного неба) и Эос (Утренней зари). По Диодору Сицилийскому, его потомки были владыками главного города Гипербореи и хранителями сферического (!) храма – святилища Аполлона. Именно сюда эллинский Солнцебог прилетал каждые 19 лет, посещая места, где когда-то родился. Такие храмы с куполами и колоколами видели и описали арабские купцы-путешественники, на территории нынешней России задолго до введения здесь христианства!
В русском фольклоре есть сказочный Буря-богатырь (чем не Борей?): он – не просто могучий исполин, но ещё и Коровий (Бычий) сын, сражается на знаменитом Калиновом мосту с многоглавыми змеями. Все это закодированная символика, поддающаяся смысловой расшифровке. Из индоевропейского лексического гнезда с корневой основой «бу (р)» со смыслом «буйный» вышел и знаменитый образ русского фольклора – Остров Буян, присутствующий как в сказках (присказках), так и в магических заговорах. В современном обыденном понимании буян – это человек, склонный к буйству, попросту – скандалист. Не так было в прошлом, когда слово «буян» означало совсем другое. В «Слове (Молении) Даниила Заточника» (Х11 в.) буян – это гора (холм), а за буяном кони пасутся. В древнерусском языке и народных говорах слово «буй» и производное от него «буян»: высокое место: гора, холм, бугор; глубокое место в море, реке, озере – стремнина, пучина, быстрое течение; открытое место – или для построения кумирни, то есть языческого (позже – православного) храма, или же для княжеского суда, менового торга. Выявление архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл мифологемы Остров Буян. Это – не просто гора на острове, а, скорее всего, гористая земля посреди пучины (стремнины) Моря Окияна [буйная фантазия и не более], где раскинулось разгульное торжище и откуда торговые гости – соловьи будимировичи – развозят по всему свету товары – рукотворные и нерукотворные (последние известия и новости). И здесь снова и неизбежно напрашивается аналогия с Гипербореей – Северной территорией посреди Ледовитого океана [остров посреди океана – это Арктида (условное название, см. карту Меркатора), а Гиперборея располагалась по северному побережью Евразии] и с господствующей на ней горой Меру.
Вот такова основная позиция В. Н. Дёмина в отношении древней истории Руси. Он привёл, как видим, достаточное количество аргументов о связи предков Русского народа с северными землями, которые ранее существовали в Северном океане. Главная неточность в его позиции связана с тем, что он не до конца разобрался, что есть реальные Северные земли, где ведические гимны располагали гору Меру, и где на самом деле существовала Гиперборея, известная грекам прародина Апполона.
Вторая странность состоит в том, что образованный человек, доктор наук, почему-то опирался в своих аргументах на библейские сказки, что является очевидной ошибкой для поиска исторической истины.
Третье важное недопонимание древней истории Дёминым связано с тем, что прапредки всех других народов (не арийских) не обитали в северных широтах, там зародилась только Белая раса человечества, которая затем расселилась по ойкумене из-за потопления в 75 тыс. до н. э. Северной земли (Арктиды), во-первых. И во-вторых, из-за дикого холода, пришедшего на нынешний север Евразии в 10 тыс. до н.э.
Критический взгляд Дёмина на русскую историю
Вся беда в том, что подавляющее большинство историков – крупных и мелких, отечественных и зарубежных, умерших и здравствующих – односторонне представляют связь между устной и письменной историей. В качестве документальной основы признаются, как правило, только письменные и материальные источники. Так называемая устная традиция передачи сведений о прошлом отвергается начисто, высмеивается и шельмуется [именно так, но это неправильно, абсолютно неверное отношение]. При этом в упор не замечаются самоочевидные истины: многие основополагающие исторические труды (от Геродотовой «Истории» до Несторовой «Повести временных лет») зиждятся (особенно в начальных своих частях) исключительно на [чьих-то] устных преданиях и рассказах [верно – одни источники принимаются, а другие аналогичные как по форме, так и по содержанию отвергаются научным сообществом].
У устных преданий другая жизнь, нежели у письменных. Как отмечал академик Борис Дмитриевич Греков (1882—1953), «… в легендах могут быть зерна истинной правды» [так и есть, только эти зёрна надо уметь выявить]. Поэтому непременным условием аналитического и смыслового исследования исторических сказаний является отделение «зёрен от плевел». Легенды о происхождении любого народа всегда хранились как величайшая духовная ценность и бережно передавались из уст в уста на протяжении веков и тысячелетий. Рано или поздно появлялся какой-нибудь подвижник, который записывал «преданья старины глубокой» или включал их в подредактированном виде в летопись [именно так и поступал, например, Ю. Миролюбов, а Дёмин, почему-то28, не знал о Сказах Захарихи, судя по его книгам]. Таким образом поэмы Гомера (беллетризированные хроники Троянской войны) были записаны ещё в античные времена, русские и польские предания – в начале II тысячелетия н.э., Ригведа и Авеста – в XVIII веке, русские былины и карело-финские руны – в XIX веке и т. д. По логике же ученых-ригористов: раз Ригведа и Авеста (и соответственно – подавляющее большинство фольклорных произведений) не были записаны во времена их создания, значит, все эти тексты являются сомнительными [пустые слова вместо вразумительных аргументов от «академиков»].
Схему устной передачи, сохранения, записи и печатного воспроизведения древних текстов особенно наглядно видна на примере магических заговоров. Никто не станет оспаривать, что подавляющее число заговоров (безотносительно какому народу они принадлежат) уходят своими корнями в невообразимые глубины далёкого прошлого. Например, во многих русских сакральных заговорах присутствуют такие архаичные мифологемы как Остров Буян, Алатырь-камень и пр., наводящие на мысль о гиперборейских временах. Тексты эти исключительно консервативны, то есть передаются от поколения к поколению на протяжении многих тысячелетий практически без изменений. Передаются тайно, с оговорками и соблюдением различных условий – в противном случае заговор теряет свою магическую силу. Вместе с тем и сегодня любой, кто захочет и приложит не слишком большие усилия, может отыскать такой древний заговор (не обязательно в глухой деревне и у столетней старухи), записать его и при желании – опубликовать. И что же – разве будет означать публикация, к примеру, 2000-го года, что перед нами подлог, обман или фальсификация? Ничуть! Но ведь именно так рассуждают те, кто отвергают устную традицию передачи исторических знаний на том основании, что записи преданий, тысячелетиями передававшиеся из рода в род и от поколения к поколения, дескать, записаны недавно [согласны с Дёминым – действительно глупейшая аргументация].
Обратимся к классикам. М. В. Ломоносов называл дату начала человеческой истории, далеко выходящую за границы самой дерзкой фантастики. Четыреста тысяч лет (точнее – 399 000) – таков результат, полученный русским гением [к сожалению, дата, не имеющая никакого отношения к реалиям бытия]. А опирался он, как мы помним, на вычисления вавилонских астрономов и свидетельства египтян, зафиксированные античными историками. Именно тогда произошла один из тяжелейших по своим последствиям планетарных катаклизмов, послуживших началом гибели Арктиды-Гипербореи [странно, так Арктиды или Гипербореи, это совершенно разные понятия] и катастрофического похолодания на Севере [как отмечено выше, эта дата не имеет никакого отношения к гибели Арктиды и тем более к похолоданию на севере Евразии, что случилось соответственно в 75 и 10 тыс. до н.э.].
В писаной же истории действуют совершенно иные исторические даты [это да, реалии бытия совершенно не стыкуются с академической позицией]. В реконструированной «Повести временных лет», которой открываются все главные русские летописи первой реальной датой, как уже отмечалось, назван 852 год н.э. (или в соответствии с древнерусским летосчислением – лето 6360), когда появился у стен Царьграда мощный русский флот – потому-то и попала сия дата в византийские хроники, а оттуда – в русские летописи. Следующая, воистину знаковая, дата – 862 год (лето 6370), год призвания на княжение Рюрика и его братьев [не было никакого призвания]. Именно с этой даты и принято было долгое время вести отсчёт русской истории: в 1862 году даже было отмечено с превеликой помпой так называемое 1000-летие России, по случаю чего в Великом Новгороде установили великолепный памятник по проекту скульптора Михаила Микешина, ставший чуть ли не символом российской государственности и монархизма.
Есть однако в русских летописях ещё одна дата, не признанная официальной наукой. Речь идёт о древнерусском сочинении, известном под названием «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске», включённом во многие хронографы русской редакции, начиная с XVII века (всего известно около ста списков данного литературного памятника). Здесь рассказывается о праотцах и вождях русского (и всего славянского [нет такого этноса] народа), которые после долгих скитаний по всему миру [не по миру, а от Причерноморья до Волхова] появились на берегах Волхова и озера Ильмень в середине 3-го тысячелетия до новой эры (!), основали здесь города Словенск и Старую Руссу [просто Русу (с одним «с» и так надо писать и в современной интерпретации), старая она стала позже] и начали впечатляющие военные походы: как сказано в первоисточнике, ходили «на египетские и другие варварские страны», где наводили «великий страх».
В Сказании называется и точная дата основания Словенска Великого – 2409 год до новой эры [неверно, почему-то Дёмин не учел ещё 14 лет скитаний братьев от Причерноморья к Волхову, что обозначено в самом Сказании, поэтому дата основания Словенска 2395 год до н.э.] (или 3099 год от Сотворения мира). Спустя три тысячи лет, после двукратного запустения, на месте первой столицы Словено-Русского государства был построен его градопреёмник – Новгород. Потому-то он и назван «новым городом» – ибо «срублен» был на месте старого, по имени которого новгородцы долгое время ещё продолжали прозываться «словенами» (таковыми их знает и Несторова летопись). Досталось Ново-граду от его предшественника также и приставка – Великий.
Современные историки-снобы, как и их позитивистски настроенные предшественники, не видят в легендарных сказаниях о Словене и Русе никакого рационального зерна, считая их выдумкой чистейшей воды, причём сравнительно недавнего времени [ортодоксы замалчивают неугодные им источники]. Так, прославленный наш историк Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) [прославился своим враньём, если только] в одном из примечаний к 1-му тому «Истории Государства Российского» называет подобные предания «сказками, внесёнными в летописи невеждами» [характеристика невежды имеет отношение в первую очередь к самому Карамзину].
Спору нет: конечно, безвестные историки XVII века что-то добавляли и от себя, особенно по части симпатий и пристрастий. А кто, скажите на милость, такого не делал? Карамзин, что ли? В историографических пристрастиях, верноподнических восторгах и политических предпочтениях [вот именно] он был бо́льшим католиком чем сам римский папа. Уверовав однажды в удобную с точки зрения самодержавия версию о призвании варягов и отождествив их с норманнами, Карамзин намертво и безапелляционно отвергал [вот ведь каков] любые отклонения от своей абсолютизированной схемы начальной русской истории и, не колеблясь, объявлял ложной или поддельной любую точку зрения, не совпадающую с его собственной [так вот, констатируем, что Карамзин наврал нам всем, намеренно исказив историю Руси]. Что касается хронологии, то Древнейший (!?) период отечественной истории, как о том чёрным по белому написано в предисловии к 12-томному карамзинскому труду, начинается [только] с 862 года (?!) [так вот, реалии бытия таковы: предки Русского народа были одним из первых народов Белой расы, появившейся на севере Евразии около 1 млн лет назад29! (см. главы 2 и 3)]. У нас вообще давно укоренилась довольно-таки странная точка зрения, согласно которой верхняя хронологическая граница Древней Руси доводится до начала Петровских реформ, то есть фактически до XVIII века. Особливо поспособствовали превращению этой вообще-то заведомо абсурдной концепции литературоведы: ничтоже сумняшеся они все как один завершают древнерусскую литературу XVII веком. Дабы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любой учебник, справочник, хрестоматию или 12-томное издание «Памятники литературы Древней Руси», где последние три тома приходятся на XVII век. Но и этого показалось мало: в издаваемой ныне 20-томной «Библиотеке литературы Древней Руси» (до 2000 года вышло 7 томов) «древность» доведена уже до ХХ века, и в последний том предполагается включить, к примеру, переписку крестьян-старообрядцев времён коллективизации.30 И это при том, что за бортом многотомного издания, претендующего на роль всеобъемлющего, остались действительно древние памятники – Токовая Палея, большинство летописей и архаичных апокрифов.
По количеству же субъективных домыслов, тенденциозности и так называемой научной отсебятины (талантливо однако преподнесённой) «История Государства Российского» сто очков даст фору любому хронографисту и летописцу [очень правильная характеристика этой «истории»]. Одно меланхолическое начало карамзинского труда чего стоит: «Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россиею, в умеренных её климатах была искони обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками». Вот ведь какой, по Карамзину, была Россия [Русь вообще-то] до появления Рюрика с братьями [врал, искажал историю Руси без стыда и совести].
Карамзин как будто пересказывает «злого демона» русской историографии, одного из столпов псевдонаучного норманизма, почётного иностранного члена Санкт-Петербургской академии Августа Людвига Шлёцера (1735—1809) [пожалуй, главный идеолог-фальсификатор русской истории]. Разве не напоминает вышеприведённый пассаж Карамзина такое, с позволения сказать, шлёцеровское «умозаключение», касающееся древнейшей русской истории (речь идёт конкретно о VII веке новой эры): «Повсюду царствует ужасная пустота в средней и северной России. Нигде не видно ни малейшего следа городов, которые ныне украшают Россию. Нигде нет никакого достопамятного имени, которое бы духу историка представило превосходные картины прошедшего. Где теперь прекрасные поля восхищают око удивлённого путешественника, там прежде сего были одни тёмные леса и топкие болота. Где теперь просвещённые люди соединились в мирные общества, там жили прежде сего дикие звери и полудикие люди» [такое мог заявить только враг и ненавистник всего русского].
Поразительно, но факт: сказанное Шлёцером относится как раз к той самой эпохе правления византийского императора Юстиниана, когда славяне вторглись на Балканы и держали в постоянном страхе и Восточную, и Западную Римскую империю. Именно к данному времени относятся слова одного из славяно-русских вождей, сказанные в ответ на предложение стать данниками Аварского каганата: «Родился ли среди людей и согревается ли лучами солнца тот, кто подчинит нашу силу? Ибо мы привыкли властвовать чужой землёй, а не другие нашей. И это для нас незыблемо, пока существуют войны и мечи». Так что ещё вопрос, кто больший «невежда» в русской истории: тот, кто ведёт её начало от Словена и Руса, или тот, кто низводит свой народ до уровня троглодитов [!], считая, что в подобном состоянии славянские племена пребывали вплоть до принятия христианства31.
Чаще всего говорят однако: записи легенд о Словене и Русе позднего происхождения, вот если бы они были записаны где-нибудь до татаро-монгольского нашествия, тогда совсем другое дело. Что тут возразить? Во-первых, никто не знает, были или не были записаны древние сказания на заре древнерусской литературы: тысячи и тысячи бесценных памятников погибли в огне пожарищ после нашествия кочевников, собственных междоусобиц и борьбы с язычеством. По крайней мере, на дощечках «Велесовой книги» всё, что нужно, отображено и сохранилось [полностью согласны с Дёминым]. Во-вторых, если говорить по большому счёту о позднейших записях, то «Слово о полку Игореве» реально дошло до нас только в екатерининском списке XVIII века да в первоиздании 1800 года; оригинальная же рукопись (тоже, кстати, достаточно позднего происхождения), как хорошо известно, сгорела во время московского пожара 1812 года, и её вообще мало кто видел [правильный пример по теме].
А бессмертная «Калевала»? Карело-финские руны, содержащие сведения об архаичных гиперборейских временах, были записаны и стали достоянием читателей Старого и Нового Света только полтора века назад. И ни у кого не вызывает сомнения в подлинности текстов. ещё позже на Севере был записан основной корпус русских былин. Кое-кто скажет: это – фольклор. А какая разница? Родовые и племенные исторические предания передавались от поколения к поколению по тем же мнемоническим законам, что и устное народное творчество [более того, Веды передавались устно из поколения в поколение в течение тысяч лет, и это установленный факт].
Кстати, самый непотопляемый «довод», относящий «Сказание о Словене и Русе» к литературным произведениям, сочиненным в XVII веке (а то и в XVIII веке), не выдерживает никакой критики. Ибо почти за двести лет до того содержащиеся в ней сведения были записаны со слов устных информаторов Сигизмундом Герберштейном – посла императора Священной Римской империи, которую в то время возглавлял Габсбургский дом [да что там Герберштейн, аналогичные данные о Словене и Русе есть и во Влескниге, и в Будинском Изборнике, и нам говорят, что это все фальсификаты]. Уже упоминавшийся объёмистый труд посла под названием «Записки о Московии», помимо личных наблюдений и впечатлений, содержал краткую историю Руси, основанную на летописных источниках, в том числе и ныне утраченных (эти сведения пытливому и любознательному немцу сообщили сами русские, точнее – перевели по тексту какой-то утраченной летописи).
С трактатом Герберштейна были прекрасно знаком и Карамзин – однако на столь важный (можно даже сказать – решающий) момент он не обратил никакого внимания. Он даже предпринял попытку определить и вывести на чистую воду злостного выдумщика и сочинителя «Сказания о Словене и Русе». В обширном примечании №91 к 1-му тому «Истории Государства Российского» «прославленный» [кавычки автора издания] историк с негодованием и плохо скрываемым презрением объявляет имя и фамилию «смутьяна» – некий Тимофей Каменевич-Рвовский, диакон Холопьего монастыря, что на реке Мологе, одного из верхних притоков Волги.