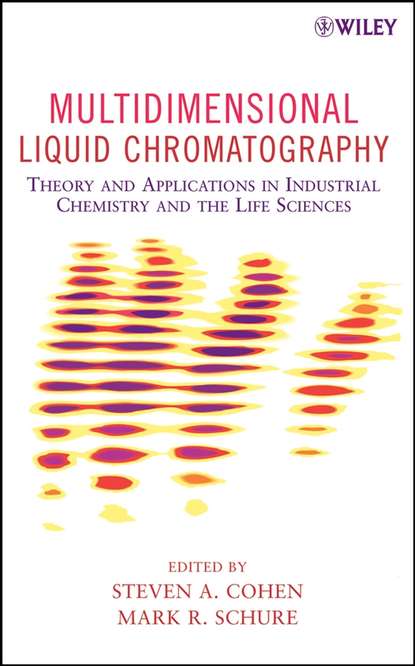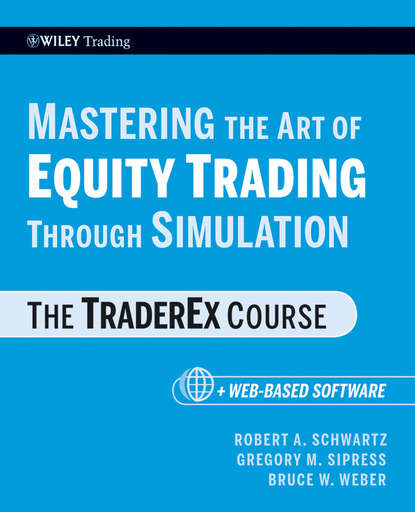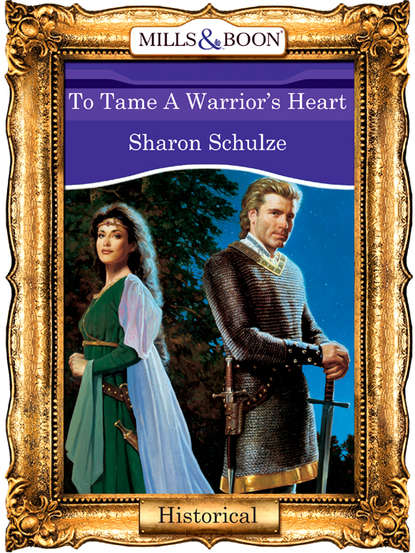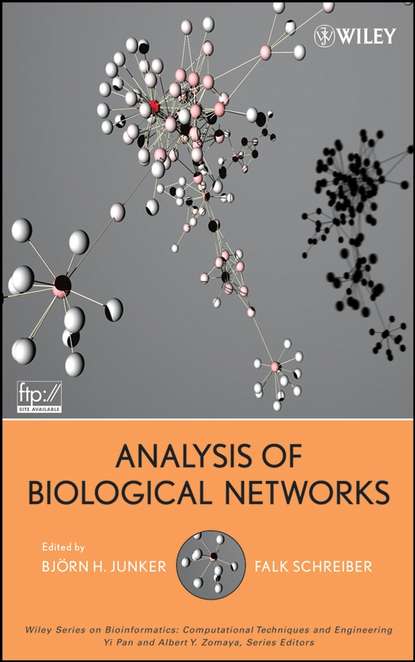Мякоть

- -
- 100%
- +

«…ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода,
ненавидящих Меня, и творящий милость
до тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои».
БИБЛИЯ, ИСХОД 20:1–5«Сделай же, боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья!»
Н. В. Гоголь. «Страшная месть»«It's getting dark too dark to see»[1]
Bob DylanПролог. Кода[2]
– И вот он зовет меня домой, обещает показать, как пекут лаваш. И что ты думаешь? Начинает показывать. И не просто показывать, а с комментариями. Смотрит так проникновенно и показывает. Сначала, говорит, надо протереть стол. И протирает, сука. Ты представляешь? Потом, говорит, надо насыпать на него муку. Берет муку, сыплет и смотрит на меня, внимаю я ему или нет. А я вся такая, как дура, киваю, киваю… А этот придурок начинает в натуре замешивать тесто… Ты знаешь, через пять минут я его уже ненавидела.
– Ну, а лаваш-то хоть получился?
– Да я уже и не помню. Какая разница? Никуда мне не уперся его лаваш.
– Ну, а так-то, с лица-то ничего хоть?
– Да ничего… весь в муке…
…
Тяжесть какая-то во всем теле. Как будто он сам самолет. Дрожь от пола и еще этот звук. Словно вой. Или так и должно быть? И эта тошнота, гул в затылке. Турбулентность? Почему самолет так трясется? Он же не птица? Хотя, что он знает о птицах? Каково это лететь?
Мама беспокоилась, когда скворцы стаей садились на спелую вишню. Как саранча. Это черемуху не жалко. Иргу не жалко. А вишню жалко. Заставляла ладить вертушки-погремушки. Толку-то от них? До сих пор шрам на ладони, раскроил ножом, когда деревяшку стругал. Сколько времени растрачено в пустоту. Лучше бы иностранные языки учил…
Интересно, как там вишни? Бурьяном, наверно, забились? Полтора года уже не был. Или два с половиной? Или три? Надо бы на могилу съездить. Может, памятник покосился? Что ж так все вдруг навалилось? И вой этот…
Так Каштан выл, когда отец Митрича зашибся. Пошел за сухостоем, свалил корягу, та упала как надо, да хлыстом подсекла гнилую березу у корня в десяти шагах. А уж белоствольная отметилась без промаха. Легла в обратку дяде Мите на голову. Тот так и опрокинулся в снег. Сразу помер. Наверное, сразу. А снег в тот день обильный вышел, старика только через месяц нашли – ручка топора из сугроба торчала. Да и не был он тогда стариком, сам теперь таких же лет. А в снегу яма осталась. След от дяди Мити. Ноги, туловище, руки, почему-то вытянутые вдоль тела, голова. Там, где голова – что-то светло-желтое в снегу. Не кровь. Желтое что-то вышибло той березой из его головы. Чего может быть в голове желтого? Или коричневое? Светло-коричневое… Едва различимое…
Вот он, этот шрам от ножа. На левой руке – еще два. Оба у основания ладони. Справа от консервной банки, сунулся в темноту чулана на ощупь. Знать бы еще, зачем бабка там старые консервные банки хранила. А слева – ото льда. Начальная школа в деревне была отдельно от средней. На перемене бегал с одноклассниками встречать молодую классную. Поскользнулся, упал, рассек ладонь о ледышку. И вместо класса попал в медпункт. У медсестры там были такие забавные кривые ножницы. И пахло мазью Вишневского. На всю жизнь запомнил этот запах – деревня, грязь, то и дело чирьи… А на правой ладони под мизинцем – шрам как раз от ножниц. Но этого он не помнит. Мама рассказывала, что стригла ему малышу ногти и раскровенила ножницами ладонь. Дернулся он, что ли, вот она и рассекла. Сама, наверное, обревелась от страха. А он не помнит ничего. И операцию не помнит. Мама показала пожелтевший листок в половину ладони. Имя, еще что-то. Поправляли в младенчестве ему что-то в мужском хозяйстве. Поправили, как надо. Кто бы знал…
А Каштан ведь выл с первого дня. Как только учуял, непонятно. До Пробоевской сечи-то километра два было, не меньше. Еще и через овраг надо перебираться. Это теперь мамкин дом почти на краю леса. В садовое товарищество влился, а тогда… Дядя Митя иногда по неделе дома не появлялся, Каштана соседка подкармливала, заодно и сына дяди Мити, мамка-то у них давно померла, так пес не выл, а тут – сразу. Хотели пса на поиски хозяина отправить, а тот, скотина, забился в будку – не вытянешь. И этот звук тоже как вой…
Да елки-моталки, что же она так воет-то? И откуда в самолете собака? Где она? В багажном? И он бы ее услышал? Он что, ее один слышит? Не мог бы он ее услышать. Что же получается, нет никакого воя? Так вроде есть, а как вслушиваться начинаешь – нет. Мерное гудение самолета, болтовня двух пассажирок за спиной, да сопение соседа, который тычет пальцем в планшет. Кто он? Чиновник? Военный в гражданском? Какая разница? В молодости каждое знакомство прибыток, в зрелости – ущерб. Успокойся, Рыбкин. Все идет, как идет. Не вздумай повернуться, а ну как на взгляд наткнешься? Придется разговаривать, кивать, улыбаться… Ладно бы, если девушка, а так-то… Нет, хорошо сидеть в первом ряду. Можно ноги вытянуть. Никого впереди. Только стюардесса.
…
А если дядя Митя умер не сразу? Черт, ему же, наверное, и вскрытие не делали? Или делали? Кому он нужен… А если его только оглушило, ну и, наверное, шею переломило? А что, если он пришел в себя в снегу и понял, что умирает? Что не может пошевелиться? Руки-то были вытянуты вдоль тела. Как упал солдатиком – так и лежал. Топор – рядом ручкой вверх. И гнилая береза рядом. Вот ведь хлобыстнула, Рыбкин потом даже потрогал ту березу, возле головы дяди Мити у нее толщина была в три пальца. Всего в три пальца. В три гнилых пальца, поскольку разлетелась эта береза на куски сразу. Но дяде Мите хватило. Глупая смерть. Из-за гнилой деревяшки. Санки с перевязаным бечевой хворостом рядом. Тоже снегом занесло. И дядю Митю занесло. А пока заносило, он лежал и смотрел в небо. И, может быть, думал о чем-то. Не самое плохое, кстати, видеть перед смертью небо. Даже между деревьев. Ни боли, ничего. Если не дергался, какая боль? Или случается боль, когда и дергаться нечем? Холодно было. Понятно, если снег шел, то не так уж и холодно. Но все равно. Говорят, смерть на холоде сладка. Врут, наверное. Кто об этом мог рассказать?
Они еще потом волокли с Митричем эти санки к деревне. Ну, не пропадать же хворосту. И санкам. А топор прибрал кто-то. Митрич скулил всю дорогу, как щенок. Ясно было, что к соседке придется перебираться. Но слезы быстро высохли. Чего он хорошего от отца видел? А потом они еще и с горки на этих санках катались. Садились вдвоем и скользили по снежной целине прямо к речке. Хотя уже и весна была, считай. А ему все казалось, что на санках их не двое, а трое. Что же все-таки могло быть светло-коричневого в голове у дяди Мити?
…
И все-таки собака выла. Или где-то в закоулке самолета, или в голове. Так выла, что мороз пробирал по коже. Словно Рыбкин летел не в Боинге, а в бесшумном планере и как раз теперь парил над безмолвной деревней с отчаявшейся дворнягой и трупом в одном из домишек или на той же сече в двух километрах. Или это не собака? Дядя Митя как-то рассказывал деревенским мальчишкам, что когда печник клал печь, то замуровывал в трубу бутылочное горлышко и, если заказчик наряд закрывал честь по чести, замазывал, а нет – оставлял так. И все, прощай покой, во всякий ветер печка будет воем хозяев сводить с ума. Может и здесь так? Собрали на заводе самолет, хотя этот американский же, ну, продали, пригнали по бартеру, в лизинг передали, а новые хозяева не рассчитались за него, как следует. У нынешних это легко. Ладно бы он в Европу ходил, там бы разобрались, так он по внутренним линиям ползает – Москва – Красноярск и обратно. А если бы рассчитались позже? Человечка с замазкой присылать? Едва приметного спеца? Тайного пассажира? Так кто ж его до самолета допустит? Ну, бред же, бред, нет никакого воя. Лезет же в голову всякая ерунда.
…
– Все в порядке?
– Да. В чем дело?
– Вы побледнели вроде, а потом вдруг румянец. Пот на висках. Вам плохо?
– Нет. Вы ничего не слышите?
– Слышу? – она старательно прислушалась, даже брови подняла, дежурно улыбнулась. – Ничего не слышу. Все в порядке.
– Все в порядке, – повторил Рыбкин, удивляясь звуку собственного голоса, растянул губы в улыбку, подбадривая заботливую стюардессу, и уже вслед ей, поплывшей между рядами, прошептал. – Даже удивительно, насколько все вроде бы хорошо. Несмотря на…
…
– У вас ангел-хранитель есть? – спросил сосед.
– Что? – не понял Рыбкин.
Переспросил, не поворачиваясь. Невежливо, наверное.
– Некоторые верят, что у каждого есть ангел-хранитель, – объяснил сосед. – Кстати, самолет – как раз то место, чтобы подумать об этом и даже головой повертеть. Есть, знаете ли, версия, что ангел-хранитель следует за своим подопечным в, так сказать, не естественном обличье, а в человеческом. Оглянитесь, вдруг кто-то из них ваш… куратор.
Рыбкин невольно повел взглядом по салону, оглянулся. Народ в основном спал, но никто на ангела-хранителя не походил. Да и о чем говорить, половина салона, что ли ангелов? Кто им оплачивает перелет? Хотелось бы взглянуть на эти командировочные. Что там у них? Дорожные, суточные? Да и на этакой высоте крыльями не помашешь…
– Может, это вы? – усмехнулся Рыбкин, взглянув на планшет соседа.
Что там? Ролики какие-то. Попса. Бусины наушников в ушах. Никогда не любил…
– Вряд ли, – хмыкнул тот. – Я бы знал. Почувствовал бы. Я, скорее, губитель.
– Почему? – не понял Рыбкин.
– Жена так говорит, – пробормотал сосед и, к облегчению Рыбкина, разговор не продолжил.
…
Надо было ехать на поезде. Взять «СВ» в пекинский, хоть отоспаться. Все Борька Горохов, срочно-срочно. Какая там может быть срочность? Без него, что ли, не могли решить? Все уже давно просчитано и согласовано. Хотя, так даже лучше. Почти трое суток в поезде, с тоски сдохнешь. Хорошо хоть Ольга в отъезде, меньше вопросов. Всего меньше…
…
Вот и нет бати. Как там Юлька? Справится? Ничего, справится. Сама вызвалась. Черт возьми, куда же все-таки отец задевал свои награды? И не только награды…
…
Сашка. Надорвалось что-то в последний день, или показалось? В глазах что-то мелькнуло. Нехорошее что-то. То ли боль какая, то ли усталость. Откуда у нее усталость? На двадцать лет его младше. Или больше. Или он с ней собственной усталостью успел поделиться?
…
– Она во сне болтает. Ну, не всегда, но, если подопьет, частенько… выражается. Ну, мужик ее все прикалывался, а потом услышал сквозь сон, как она поминает кого-то, решил записать. Поставил, значит, магнитофон, и спать. Утром кассету в карман, пошел в рейс, да в магнитолу ее…
– Да, ладно! У кого сейчас магнитолы-то? Сейчас эти, как их, флешки?
– А ты думаешь, куда магнитолы деваются? Вот на такие лимузины, как у этого обалдуя, и попадают. Да куда там лучше-то? У него ж грузовик… День вожу, два под ним лежу.
– Ну и он что?
– Да ничего. Послушал на свою голову. Нет, сначала он, конечно, выяснил, что сам храпит как сволочь. Ну, а потом и женушка голосок подключила. По первости, правда, что-то за свою бухгалтерию бормотала, счета-провóдки, а потом стонать начала. Да так жалобно, с чувством. Игореша, Игореша! Еще! Еще!
– А он?
– А что он? Думаешь, разбираться побежал? Сейчас. Спрятал ту кассету, да в загул. Оторваться решил. Короче, она его с бабы прямо в машине и сняла.
– С какой бабы?
– Да какая разница? Ему бы после того случая сразу телефончик жены потеребить, там этого Игорешу поискать, одно к другому прикинуть, а он его как проездной воспринял. Ну и тычет ей кассету в рожу, мол, а ты-то, ты-то что творишь? Что за Игореша?
– А она?
– А что она? Тут же нашлась. Сама на него заорала, мол, если бы ты, стервец, меньше жрал, да больше на жену смотрел, мне бы разные актеры не снились, и я бы, если бы и стонала, так твое имя бы называла!
– А что, есть такой актер, что ли?
– Да какая разница? Мало ли…
– Не, я что-то не пойму, кто этот Игореша на самом деле?
– Да был там один… По паспорту, правда, Георгием числился. Да это все ерунда, вон у меня начальник – Валерий Петрович, всю жизнь Валерий Петрович, и на табличке Валерий Петрович, а в уставных бумажках – Валентин. Ну не нравится ему имя Валентин. Так и этот… с выпуклостями. С пузом и кошельком, непонятно, что толще. Любил, чтобы его Игорешей звали. Особенно, когда из бухгалтерии кого после работы задерживал… Баланс составлять…
– А ты-то откуда знаешь?
– Знаю вот… Такое между зубов не удержишь.
…
– Может быть, вам все же что-то…
– Ничего, справлюсь. Спасибо вам. Не беспокойтесь.
…
Вряд ли намного младше Сашки. Ровесница. Красивая. Чересчур туго затянута в униформу, тоже способ бороться с излишней полнотой, но красивая. Да и что там полноты? Тело, наверное, хорошее. Кожа свежая, молодая. Пока еще. Пьет, наверное, кто-то молодость из нее. Если молодой и глупый, так и глотает, не чувствуя вкуса. А она ведь чудо. Если только не стерва. Нет. Вряд ли. Добрая. Хорошая девчонка. Да хоть бы и недобрая? Много ли от нее надо случайному пассажиру? Такому, как он, не бедному, но и без понтов… Или с понтами? Даже говорить особо не надо, смотри в глаза и касайся запястья кончиками пальцев. Ноготками коли. До боли. Очень важно, чтобы до боли. Какая она дома, интересно? Такая же? Смысл жизни в форменной юбке. Смысл жизни. Просто смысл жизни. Почему? А потому что если нет тебя, то нет и смысла. Ничего нет. Хотя, Юлька же есть?
…
Интересно, каким его видит стюардесса? Аккуратным, подтянутым парнем возрастом за сорок с живым лицом и шапкой темных с легкой проседью волос? Или одутловатым мужичком за полвека с усталой физиономией и мутными глазами? Дорогие ботинки и костюм могли быть надеты и тем, и другим. Или ей все равно? Ей все равно. Это правильно. Ей и должно быть все равно. Умница. Чудо. Красавица.
Черт, и подарить ей нечего…
…
А каков он по сути? «В натуре», как сказал бы тесть… Кто он на самом деле? И тот, и другой? Или только последний? Ну, если честно? А?
…
Ощутить пальцами гриф, поймать на слайд струну и извлечь долгий ноющий звук. Уплыть вслед за ним. Раствориться. Исчезнуть. Без следа.
…
«Baby, do me a favor, keep our business to yourself»[3].…
– Уважаемые пассажиры. Наш самолет…
Часть первая. Блюз
Глава первая. Осень
«I've got a woman way cross town.She's good to me»[4]Ray Charles. «I've Got a Woman». 1954Березы росли далеко – за тротуаром, стоянкой такси, журавлями шлагбаумов и за дорогой, но ветер притащил пригоршни желтых листьев к самому стеклу аэропорта. Наклеил их на мокрый асфальт, плитку, автомобили, турникеты, разбросал под ногами и успокоился. Затих на время.
Когда Рыбкин наступал на камень, шаг получался звонким. Когда на листья – глухим и влажным. Хотелось пить и дышать. Но на горло давил галстук. На плечи – костюм. Обувь казалась тесной. И голова была тесной. И в груди что-то ворочалось, сетуя на неудобство. И земля притягивала его слишком сильно, словно соскучилась, пока он пребывал в небесах.
Иногда на Рыбкина накатывало подобное. И тогда он стискивал кулаки и начинал мысленно трепыхаться. Представлять, что он растет, расправляет плечи, становится великаном. Возвышается над собственной слабостью. В этот раз привычный фокус не удался. Он как будто стал больше самого себя. Все, что томилось в тесноте, вырвалось на свободу. Царапина на носке ботинка начала ныть, словно ссадина на ноге. Воротник плаща принялся зудеть на сгибе. Сам плащ обратился сложенными за спиной крыльями. Ветер обнял Рыбкина и не дал ему упасть. Он словно сам становился ветром. Что за ерунда?
Рыбкин остановился, закрыл глаза, глубоко вдохнул, потянул узел галстука. Странное ощущение, будто ничего нет, не оставляло…
Ничего нет. Умер не его отец, а он сам. И стоит у выхода из аэропорта не топ-менеджер крупной торговой компании, а его все еще не осведомленная о трагическом обстоятельстве тень.
Сашка не позвонила и, значит, не приехала…
Рыбкин постоял возле цветочницы, ожидая, что один из букетов попросится в руки, погрел в ладони телефон, но не сделал ничего из запланированного. Ни позвонил, ни купил цветы. Аэропорт, мгновение назад выпустивший его из теплых стеклянных потрохов во влажный сентябрь, сдвинул двери. Захотелось вернуться и попробовать еще раз. Пройти по гулкому рукаву перехода, поглазеть на книжный развал, намотать на бобину вероятности необходимые Сашке минуты. Дать ей шанс.
Рыбкин сунул телефон в карман брюк, коснулся внезапно ожившей плоти и зажмурился от нестерпимого юношеского желания. Что ты со мной делаешь, девочка?
– Такси?
Мужчина не шарил глазами по толпе, а смотрел именно на Рыбкина. Среднего роста, молодой, гладко выбритый, с короткой стрижкой, в свежей рубашке, в отпаренном пиджаке, в отутюженных брюках, в начищенных ботинках. Весь словно с иголочки. Спокойный, доброжелательный. Ну что, Рыбкин, поедешь или вызвонишь Антона? Прилетит за час…
Нет, торчать в аэропорту не хотелось.
– Без курения, разговоров, шансона и лихачества?
– Сам не люблю.
– Поехали. Строгино.
Куревом в машине не пахло. К удовлетворению Рыбкина ароматизаторами тоже. Водитель открыл заднюю правую дверь, дождался, когда клиент бросит на сиденье слишком легкую для багажника сумку и займет место, сел за руль и плавно отчалил от пандуса. Рыбкин оглянулся на стеклянную стену аэропорта, закрыл глаза и на мгновение представил, что Сашка его все-таки встретила. В кармане ожил телефон. Борька домогался его уже с утра.
– Да.
– Привет, старик. Приехал?
Что Рыбкину не нравилось в Борьке особенно сильно, так это вкрадчивый тон. Начальник снабжения солидной фирмы пришептывал, словно только что взлетел без лифта на пятый этаж, или волновался, передавая секретное сообщение. Или же просто не шел по жизни, а крался.
– Прилетел.
– Вот и отлично, – Борька довольно засмеялся, но тут же включил режим раскаяния. – Только ты уж прости, но собрание перенесли на вторник. Узнал вчера поздно, звонить тебе не стал. У вас там глубокая ночь уже была. Но на работу все равно придется заехать, старикан велел всем отметиться, взять материалы, чтобы разговор был предметным.
– Какие материалы? – не понял Рыбкин. – Почему не рассылкой? А доклады от каждого департамента он приготовить не велел?
– Ну, знаешь, – захихикал Борька. – Он твой тесть, а не мой. Вот ты бы у него и спросил. Это его заморочки – секретность, все такое. Сам знаешь, этих… Бывших не бывает. Мое дело довести до сведения. Но я бы на твоем месте не выделялся.
– Ты бы на любом месте не выделялся, – буркнул Рыбкин и добавил, чтобы не оставлять занозу в душе приятеля. – Слишком умен для этого.
– Был бы умен, – продолжил хихикать Борька, – Сергей Сергеевич стал бы моим тестем, а не твоим. Сегодня воскресенье, совет директоров во вторник, на работу заглянуть минутное дело, ты еще в отпуске, я уже в отпуске, так что завтра у меня: рыбалка, грибы, шашлык – на выбор. Банька, само собой. Возражения не принимаются.
– Послушай, – на Борьку было бессмысленно обижаться, – я не в отпуске.
– Понимаю, старик, – сочувствовать Горохов умел натурально. – Ты успокойся. Бате твоему сколько было? Под восемьдесят? Мог бы и пожить еще, но умер, как я понял, мгновенно? Не лежал, под себя не ходил, до последнего дня бодрецом? Я ему завидую, Рыбкин. Я тоже так хочу, в восемьдесят, бодрецом и мгновенно. Ему повезло.
– Отчасти, – согласился Рыбкин.
Ему не хотелось обсуждать это с Борькой.
– Так что, прости, мой дорогой, но…
Рыбкин представил, как Горохов пытается развести руками, отставляет в сторону левую руку и морщится из-за того, что правая занята телефоном, в представлении тщательно выбритого от пуговицы на воротничке до коротко остриженных непослушных вихров Борьки все жесты следовало исполнять симметрично.
– Отдышись пока. Я ж не виноват, что старикан такой маневр заложил. Но сегодня-завтра – чистые твои дни. Не напрягайся, Корней пыхтит, с тобой, конечно, не сравнится, но ничего страшного пока не наворотил. А тебе нужно развеяться. Там… – Борька в замешательстве замычал, – все в… порядке? Я имею в виду дела там, все остальное?
– Юлька осталась, – сказал Рыбкин. – Отец на нее все отписал. Оформляет. Квартиру продает. Есть покупатели.
– Справится? – сделал обеспокоенным голос Борька.
– Ей уже двадцать два, – напомнил Рыбкин. – Институт заканчивает в этом году.
– Ну да, – вспомнил Борька. – А ведь только вчера бабочек ловила у меня на луговине за домом. С пацанами моими возилась. Рыбкин, мы же с тобой уже старые, как… А она у тебя, выходит, вся в деда? Деловая!
– Нормальная, – не согласился Рыбкин.
– Ты не обижайся, – зашептал Борька. – Ты классный мужик, но ты… музыкант. А вот Сергей Сергеевич, это да… Кстати, поиграешь, будет мой новый знакомец, он из ваших.
– Из наших? – не понял Рыбкин.
– Блюзмен, – объяснил Борька.
– Я тебе уже говорил, – с раздражением процедил сквозь зубы Рыбкин. – Я не блюзмен. Блюз… – это диагноз. А я здоров. Да и не музыкант я…
– Ну, так ты будешь, здоровяк? – поинтересовался Борька. – Гитару тащить не нужно, найдется.
– Еще раз повторить?
– Ну, может, захочется, – снова захихикал Борька.
– А твои что?
– Дочь учится, у них там в Баварии строго с этим. А Нинка и мальчишки в Испании, будут только через неделю. Представляешь, как мои спиногрызы рады? Как тебе? На неделю от школы откосить в начале учебного года! Не в первый раз, кстати!
– Холостуешь? – понял Рыбкин.
– Так и ты… – намекнул Борька. – Ольга Сергеевна в Италии ведь где-то?
– Ладно, увидимся, – кивнул Рыбкин, словно Борька мог его видеть, и уже нажав отбой, добавил. – Где-то.
Нет, надо было ехать на поезде. Намять бока, устать от безделья. Может быть, даже упиться в первый день, потом день приходить в себя или на третий день приходить в себя. Обошлись бы и без него.
– Отец умер в Красноярске, – неожиданно произнес Рыбкин, поймал себя на виноватой улыбке, тут же стер ее и добавил. – Ездил хоронить. Дочь осталась улаживать все. А я… а у меня работа, черт бы ее побрал…
Водитель не проронил ни слова, только кивнул. Рыбкин вздохнул, наклонился, чтобы разобрать имя на карточке, но тот уже протянул визитку. Рыбкин спрятал ее в карман. Добавил сквозь сжатые зубы так, словно кто-то требовал от него объяснений, проклиная себя при каждом слове и понимая, что его неожиданная словоохотливость имеет одну-единственную причину – неприезд Сашки:
– Год отца не видел, хотел в октябре на неделю завалиться, а он умер. Вроде сразу. Инсульт. Нашли на второй день только, но говорят, что сразу. Вот я и завалился…
По встречке промчались, свистя сиреной, сразу две скорых. Кто его знает, может, если бы отец жил не один, да не валялся на полу в пустой квартире, то не умер бы? Лежал бы в больнице теперь, Юлька бы за ним ухаживала, чуть что выкрикивала бы нянечку в коридоре, а он кривил бы полупарализованный рот и грозил приехавшему сыну пальцем.
Рыбкин зажмурился и снова представил стеклянные стены Домодедово, прозрачные двери и Сашку, встречающую его у входа. Повертел в руках телефон. Открыл глаза, посмотрел на мелькающие вдоль дороги подмосковные перелески, набрал большим пальцем – «Птичкин! Привет. Приземлился, еду домой, целую».
Отправил Юльке.
– Куда? – спросил водителя, когда машина повернула.
– По кольцу пойдем, – ответил тот и постучал пальцем по навигатору. – Пробка на третьем. Я сюда ехал мимо. Надолго. Авария. А на кольце только дежурная, у Профсоюзной, но мы проскочим. Да и то, воскресенье, утро, может, и вовсе не встанем. Да и так-то – по спидометру по кольцу еще и ближе получится.
– Давайте, – махнул рукой Рыбкин и задумался.
Телефон все еще был у него в руке. Позвонить Сашке, или нет? Воскресенье. Восемь утра. Сбрасывал же смс со временем прилета… Могла бы и поменяться, если что… Какая сегодня у нее смена? Улетал… Значит… Работает. Сегодня точно работает, но это только с одиннадцати. Забыла и еще спит. Через час начнет просыпаться, потягиваться, потом пойдет в ванную, опустится в теплую воду и продолжит просыпаться уже там, пока не обнаружит, что времени-то осталось всего ничего. Начнет торопиться, одеваться, готовить кофе, мастерить тоненький бутербродик, быстро гладить платье, и все это время метаться между кухней, ванной, спальней, гладильной доской и телефоном. Нагишом… Или нет. Ну, точно нет! А мама? Она же говорила, что мама должна приехать. Из этого… Из Нижнего! Или только в ноябре? Черт, забыл… Дома теперь, возможно, строгая мама, которая присматривает за дочкой и не дает ей просыпать работу, дочка-то кормилица. Значит, платье уже поглажено, кофе готов, на столе не только бутерброды, но и что-нибудь более существенное, и просыпаться долго не удается, просыпаться приходится быстро, потому что… Кстати, какая мама? Она же говорила, что у нее и раскладушки для нее нет! Не, мама только в ноябре…