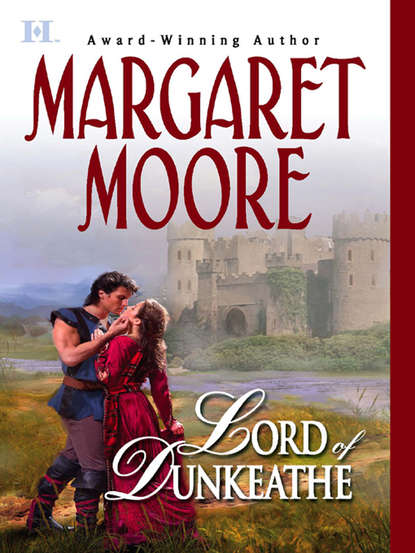Дикая Охота: Легенда о Всадниках

- -
- 100%
- +
Он оттолкнулся от стола и сделал несколько медленных шагов по залу, его сапоги глухо стучали по каменным плитам.
– Ты всё ещё думаешь о том, что рассказал Люциан, – сказал он. – А оно сидит в тебе занозой и мешает двигаться вперёд.
– Я думаю о брате! – поправила я, и голос мой неожиданно сорвался, выдавая ту боль, что копилась внутри все эти недели под слоем тренировок и новых ощущений. Я опустила клинок, он со звоном ударился о пол. – Я думаю о нём каждую ночь. Ты сказал, что он жив. Это единственная соломинка, за которую я могу ухватиться. Но что это значит? Где он? В каком углу этого бесконечного тумана? Кто он теперь? Просто призрак, потерявший себя? Или… или что-то ещё? Могу я… увидеть его когда-нибудь? Хотя бы одним глазком? Чтобы знать… чтобы просто знать, что он есть?
Каэлион остановился посреди зала, его спину ко мне освещала полоса пыльного солнечного света. Он стоял неподвижно несколько секунд, а потом медленно обернулся. Его лицо было серьёзным, почти суровым, но в глазах я увидела не раздражение, а тяжёлую, выстраданную пониманием усталость.
– Хорошо, – тихо сказал он. – Ты хочешь знать. Тогда слушай. И постарайся услышать не только слова, но и то, что между ними. Потому что правда эта… она не для слабых сердцем.
Он снова подошёл к столу, но не прислонился, а сел на его край, откинув одну ногу. Эта неформальная поза, такая непривычная для него, делала рассказ ещё более пронзительным.
– Когда Утвалг проходит порог и выживает в трансформации… перед ним, вернее, внутри него, начинается тихая война. Мир Гримфаля проверяет душу на прочность и исходов всегда два. Но это не выбор, Селеста. Никто не стоит перед развилкой с указателями. Это результат. Горький, часто кровавый результат той самой внутренней битвы.
– И как мир решает? – спросила я, подходя ближе. – Какие у него критерии?
– Сила воли, – ответил он, глядя прямо на меня. Его глаза были похожи на два куска свинцового неба перед бурей. – Но не та сила, что заставляет поднять тяжесть. А та, что не даёт сломаться, когда рушится всё, что ты знал о себе. Сила духа, что цепляется за последнюю искру «я», даже когда память расползается, как старый пергамент в огне. Способность… пройти сквозь боль перерождения, не позволив рассудку рассыпаться в прах. Большинство не выдерживает этого. Представь: твоё прошлое, твои любимые лица, звук материнского голоса, вкус первого поцелуя – всё это превращается в бессвязные, пугающие обрывки, а потом и вовсе тает, как сон на рассвете. Личность трескается. Разум, не вынеся потери, отступает в тёмный угол безумия. Для таких… для таких у нас есть «Убежища Рассвета».
Он произнёс это название без эмоций, но в самой его нейтральности крылся леденящий ужас.
– Это не больницы в твоём понимании. Это… инкубаторы для новых жизней. Там с ними работают специальные целители – их называют «Умиротворители». Они пытаются стабилизировать то, что осталось, дают сильнодействующие снотворные, травяные отвары, а потом… особые алхимические составы. Те самые, что помогают старой и безумной памяти окончательно угаснуть. Чтобы на выжженном месте могла родиться новая. Потом их выпускают. Им объясняют: ты прибыл из иного мира, понёс наказание за некий проступок (свой или предков), и теперь тебе дарован шанс начать всё с нуля. Больше они ничего не знают, не помнят и не тоскуют. Они – Реборны.
– И они… счастливы? – выдохнула я, представляя Йена с пустыми, ничего не помнящими глазами.
– Они – другие, – покачал головой Каэлион. – Они живут. Работают. Чувствуют радость от солнца, пробившего туман, от вкусной еды. Создают семьи – с разрешения Берты, чтобы регулировать численность. Любят, насколько способна любить душа, лишённая корней. Но в них нет… огня. Нет того стержня, что гнётся, но не ломается. Их характер притуплён, сглажен потерей прошлого. Они не несут в себе той тьмы и той ярости, что ведёт нас, Всадников. Они – мирные жители этого неспокойного мира.
– А те… те, кто выдерживает? Кто не сходит с ума? У кого этот «стержень» есть? – спросила я, и сердце забилось с бешеной силой, а в груди вспыхнула жгучая надежда.
Каэлион наклонился вперёд, его локти упёрлись в колени, а пальцы сплелись.
– Тех мир отмечает иначе, – сказал он. – Их не отправляют в «Убежище». Их забирают в другое место. О нём не говорят. Его не упоминают в присутствии Реборнов. Там… им вводят составы иного рода. Не для успокоения, а для… стирания. Аккуратного и хирургически точного. Они погружаются в глубокий, без сновидений сон, а когда пробуждаются, их память чиста. Но не потому, что она разрушилась под натиском боли, а потому что её стерли. Счистили, как старую краску с дерева, чтобы подготовить поверхность для нового покрытия. Потом им объясняют всё. Мироустройство. Причину их появления здесь. То, что они были избраны. Что их душа оказалась достаточно крепкой, чтобы вынести очищение. Что теперь они – Всадники. И их ждёт обучение, долг и вечная служба в рядах Охоты. Или в других структурах Гримфаля.
Он замолчал, дав мне переварить сказанное. В зале было так тихо, что я слышала биение собственного сердца и далёкий, приглушённый скрип дерева где-то в стенах Особняка.
– Сбежать из этой доли нельзя, – продолжил он. – Попытка означает одно – изгнание. Тебя возвращают обратно в твой мир через портал. Но портал – это не дверь. Это разрыв. И когда он закрывается… он сжигает всё, что осталось по ту сторону. Без разбора. Будь то Всадник, не успевший вернуться, или Реборн, случайно попавший в разлом. Сгорают за мгновение, без боли, как уверяют. Просто… исчезают в вспышке энергии.
– Йен… – прошептала я, и имя застряло в пересохшем горле. – Если он… если он прошёл через всё это и не сошёл с ума… его могли… его могли сделать одним из вас?
Каэлион долго смотрел на меня, и в его взгляде было что-то похожее на жалость, но не слабую, а суровую.
– Возможно, – ответил он наконец. – Это не быстрый процесс. Обучение, посвящение, вживление в отряд… на это уходят годы. Я не могу дать тебе точного ответа, Селеста. Я не видел списков новобранцев последних лет. Знаю лишь одно: если его имя не значилось в отчётах о погибших при трансформации и не попало в реестры «Убежищ Рассвета»… то да. У него был шанс. Тот самый, что выпадает одному из сотни.
Я зажмурилась, пытаясь совладать с водоворотом эмоций. Облегчение, что он мог выжить. Ужас, что он мог стать таким же, как эти люди вокруг меня – несущими в себе забытую вину. И горечь от того, что даже если он здесь, мы, вероятно, никогда не встретимся или он будет другим.
– А ваше обучение… – начала я, пытаясь представить Йена в чёрных доспехах, с холодными глазами, – как оно проходит? Что…
– Селеста. – Он резко поднял руку, и жест был таким окончательным, что слова застряли у меня на губах. – Хватит. Эта тема исчерпана. Детали обучения, посвящения, внутренней кухни Охоты – они не имеют ни малейшего значения для твоего пути. Они не помогут тебе выжить во время испытания, а только засорят голову. Твою судьбу теперь определит Королева. Только она. Всё остальное – пустой звук.
Его тон был твёрдым, не оставляющим пространства для дискуссий, но под этой твёрдостью, мне показалось, сквозила не просто нетерпимость, а… забота. Стремление оградить меня от чудовищного знания, которое могло сломать меня окончательно.
Я замолчала и отвернулась к окну, где солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая туман в грязновато-розовые тона. Внезапная слабость, не физическая, а какая-то глубинная, душевная, накатила на меня волной. Всё, что я узнала, всё, что мне предстояло… оно давило и было слишком огромным, слишком тяжёлым.
– Я боюсь, – прошептала я в стекло, видя своё бледное, искажённое отражение. – Я не настолько сильна, Каэлион. Не настолько… особенная. Не настолько храбрая. Я… я просто девочка с фермы, которая слишком любила своего брата. Я просто хотела его найти. А теперь… теперь мне предстоит пройти какое-то испытание великой королевы, от которого зависит, стану ли я призраком, или тенью, или… или вообще перестану существовать. Я не справлюсь. Я чувствую, как внутри всё сжимается от ужаса. Я не смогу.
Тишина за моей спиной стала другой, а потом я услышала его шаги. Он закрыл расстояние между нами в несколько широких, неспешных шагов и остановился так близко, что я почувствовала исходящее от него тепло сквозь ткань моей рубахи.
Затем – прикосновение. Его пальцы под моим подбородком были твёрдыми, шершавыми от старых мозолей и шрамов, но в них не было ни капли грубости. Только уверенная, неотвратимая нежность, когда он заставил меня повернуть голову и посмотреть на него. Я подняла глаза и увидела его лицо так близко, как никогда раньше. Напряжённое. Серьёзное. С тонкими морщинками у глаз, которые сейчас не были следами усталости, а казались отпечатками какой-то глубокой, внутренней боли. И в глубине его серых глаз, обычно таких недоступных, горел тот самый огонь. Тот, о котором он говорил. Тот, что растопил лёд.
– Слушай меня, ты уже сделала то, что считалось невозможным. Ты вошла в этот мир по своей воле, когда все остальные бежали от него. Ты пережила трансформацию, которая ломает души, гораздо более крепкие, чем твоя, казалось бы, хрупкая оболочка. Ты стоишь здесь, передо мной, с этими знаками на коже – не как клеймом, а как доказательством твоей стойкости. И ты… – он сделал паузу, и его голос дрогнул, выдавая невероятное для него напряжение, – …ты заставила ледяную пустыню, что была внутри меня дольше, чем ты можешь представить, дать трещину. Ты заставила её растаять. Разве это не доказательство? Не доказательство той силы, что в тебе есть? Силы, о которой ты сама даже не подозреваешь?
Большой палец его руки провёл по моей щеке, сметая выкатившуюся слезу. Его прикосновение было живым, и оно обожгло сильнее любого пламени.
– Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты прошла это испытание, – продолжил он, не отрывая от меня своего пронзительного взгляда. Его глаза, казалось, пили меня, впитывали каждую черту, каждый след страха. – Всё, что угодно. Я буду твоим щитом, если потребуется принять удар. Твоим мечом, если нужно будет прорубить путь. Твоей тенью, твоим дыханием за спиной. Но сражаться… сражаться будешь ты. Только ты. И ты справишься. Ты должна справиться. Потому что иного выхода… иного выхода у тебя нет.
Он снова сделал паузу, и его голос опустился до шёпота, такого тихого, что я едва расслышала, но каждое слово врезалось в память, как раскалённым клеймом.
– И у меня… – прошептал он, – …тоже. Потому что если ты не справишься… то и мне не для чего будет больше здесь оставаться.
Он наклонился и поцеловал меня.
В этом поцелуе не было страсти в привычном смысле. В нём была клятва. Обещание, высеченное из гранита его воли. В этом поцелуе была вся его решимость, вся его непоколебимая сила, которую он теперь, без остатка, направлял на одну цель – на меня. Его губы двигались уверенно, властно, но не покоряя, а утверждая. Утверждая право. Утверждая выбор. Утверждая то, что отныне мы связаны одной судьбой.
Когда он оторвался, дыхание у меня спёрло, в ушах зазвенело, а мир сузился до его лица, до его глаз, в которых теперь бушевала не буря, а какое-то тихое, всепоглощающее пламя.
– Спасибо, – выдохнула я, и это было всё, что я могла выжать из пересохшего горла. Потом, после долгой паузы, в которой бились наши сердца, я осторожно, почти боясь разрушить хрупкое заклинание, спросила: – Каэлион… можно задать тебе вопрос? В последние дни он мучает меня все сильнее и сильнее.
– Задавай, – он не отпустил моё лицо, его пальцы теперь мягко, почти неуверенно гладили линию моей челюсти, как будто он впервые прикасался к чему-то столь хрупкому.
Я глубоко вдохнула, собираясь с духом.
– У тебя было что-то… с Бертой? После того, нашего… после бани?
Он замер. Даже его дыхание, казалось, остановилось. Его глаза сузились, но не от гнева, а от какого-то глубокого, внутреннего изумления, будто я задала вопрос на забытом древнем языке.
– Почему… – начал он. – Почему тебя волнует вопрос моей… неверности? После всего, что только что было сказано? После того как ты сама, кажется, всё ещё сомневаешься в самой возможности чего-то… между нами?
Я закрыла глаза на мгновение, чувствуя, как стыд и страх поднимаются комом к горлу. Но я заставила себя открыть их и посмотреть на него прямо, вложив в свой взгляд всю свою уязвимость, всю свою неуверенность, всю ту боль, что копилась с того момента, как я узнала о его прошлой связи.
– Каэлион, послушай, – начала я, и слова текли сами, тихо, но чётко, будто я наконец-то нашла нужный ключ к замку внутри себя. – Я не знала, как… как говорить о чувствах. О своих чувствах. С тем, кто был так близок… с женщиной, которая обладает абсолютной властью над этим миром. Над тобой. Я боялась. Боялась, что мои собственные слова, моё признание в чём-то большем, чем благодарность… что они разобьют моё же сердце вдребезги. Ведь у меня, возможно, осталось так мало времени. Месяц. День. Час. Кто знает?
Слёзы снова подступили, но я не позволила им упасть, глотая их вместе со словами.
– Но несмотря на этот страх… несмотря на этот ужас перед будущим… я хочу. Я хочу провести именно с тобой те минуты, или дни, или месяцы, что мне отведены. Хочу засыпать и просыпаться только в твоих объятиях. Хочу, чтобы твои руки гладили мои волосы, когда мне страшно. Хочу, чтобы твои губы… говорили мне те слова, которые я, может быть, и не смею надеяться услышать. Но! – я сделала усилие, и голос мой окреп. – Но только после того, как я буду уверена. Уверена до дрожи в костях, что твоё сердце… и твоё тело… больше не принадлежат никакой другой женщине. Неважно, как сильно она этого желает. Неважно, какой властью над тобой обладала или обладает.
Тишина, которая воцарилась после этих слов, была самой оглушительной из всех, что я когда-либо слышала. Он смотрел на меня, и по его лицу, обычно такому непроницаемому, прокатилась целая буря. Я увидела в его глазах изумление – чистое, детское. Увидела боль – старую, глубокую, как шрам. Увидела гнев – но не на меня, а на ту ситуацию, что довела меня до таких мыслей. А потом… потом я увидела облегчение. Щемящее, беззащитное и такое огромное, что оно, казалось, согнуло его могучие плечи.
– Селеста… – произнёс он моё имя. Просто имя. Но он произнёс его так, словно это было священное слово, молитва, которую он нёс в себе долгие годы и наконец решился выговорить. – Все те, с кем я был близок телом… они были тенью. Способом забыться, заглушить гул вечности в ушах. Они не касались меня. Не касались даже краешка того, что ещё можно было назвать душой. Они скользили по поверхности, как капли дождя по броне. А ты…
Он опустил руку с моего лица и взял мою ладонь. Сильно. Так крепко, что кости слегка заныли. Он прижал её к своей груди, прямо к тому месту, где под тонкой тканью рубахи я чувствовала частые, сильные удары его сердца.
– Ты не просто коснулась. Ты ворвалась. Ты проломила эту броню, даже не пытаясь. Ты прошла сквозь все эти слои льда, пепла и забытья… и добралась до самой сердцевины. До той мёртвой пустыни, где я давно уже не надеялся увидеть ничего, кроме собственного отражения во льду. И когда ты это сделала… когда ты посмотрела туда и не отвернулась… ты забрала с собой всё. Всё, что во мне ещё способно было чувствовать. Всю мою душу, если её остатки ещё можно так назвать. Всё моё тело, которое теперь помнит только тепло твоего прикосновения.
Он наклонился ближе, и его дыхание смешалось с моим.
– И поэтому… – продолжил он, и его шёпот был похож на скрежет камня, полный какой-то дикой страсти и той самой нерушимой клятвы, – …поэтому, сколько бы обнажённых тел и готовых душ ни предстало передо мной с этого мгновения и до самого конца… я никогда не позволю себе даже взглянуть в их сторону. Не позволю себе даже мысли об этом. Потому что если я сделаю это… если я допущу хоть тень сомнения, хоть миг слабости… я не буду достоин. Не буду достоин жить на этой чёрной, проклятой земле. Дышать этим воздухом, который теперь пахнет тобой. А уж тем более…тем более я не буду достоин той, что навсегда, против всех законов и смыслов, поселилась в самом центре моего ледяного сердца.
Слёзы текли по моим щекам беззвучным потоком, но теперь это были не слёзы боли или страха. Это было что-то невыразимо большее. Щемящее, всепоглощающее, горькое и сладкое одновременно чувство, которое не имело названия, но было сильнее всего, что я знала.
– И сколько бы минут, часов, дней или лет ни прошло с этого признания, – закончил он, сжимая мою ладонь в своей так крепко, что, казалось, наши кости сольются воедино, – я клянусь тебе. Перед лицом этой земли, перед лицом собственного проклятия. Я буду жить. Я буду дышать. И я буду делать всё. Всё, что только можно вообразить и что нельзя. Только ради одной цели. Чтобы сохранить твою жизнь. Чтобы отвести от тебя любую угрозу. И чтобы однажды… если ты позволишь… если мир будет к нам хоть капельку милостив… навсегда поселиться не только в твоих мыслях, но и в твоём сердце. Стать его частью. Как ты стала частью моего.
Я не могла говорить. Во рту пересохло, горло сжалось до узкой щели. Я просто кивнула, раз за разом, захлёбываясь рыданиями и каким-то тихим, истерическим смехом облегчения, и бросилась в его объятия. Он поймал меня. Прижал к своей груди так сильно, так отчаянно, словно хотел вдавить в самое нутро, втереть в кожу, спрятать от всего мира внутри себя. Его губы нашли мои виски, мои закрытые веки, уголки губ, шепча что-то бессвязное.
И в тот миг, залитые последними лучами угасающего солнца, в прохладной полутьме оружейного зала, среди немых свидетелей в виде копий и мечей, я почувствовала себя не потерянной пленницей в чужом мире, не жертвой обстоятельств, а человеком, который наконец-то обрёл точку опоры. Опасную, запретную, хрупкую, как первый весенний лёд. Но свою. Нашу. И в этой опоре была сила, способная противостоять даже ужасу грядущего испытания.
Глава 28: Последний вечер
Я проснулась от другого качества тишины. Не от той густой, давящей немоты, что царила в первые дни, когда я лежала в лихорадке, прислушиваясь к хрипу в собственной груди. Эта тишина была завершающей. Она лежала на всем доме, как пуховое одеяло, а за окном шел снег. Не тот праздничный, кружащийся танец из детства, а гримфальский – плотный, беззвучный и… бесконечный. Он падал ровными хлопьями, не спеша, будто засыпая мир для долгого, долгого сна. К полудню знакомый двор, контуры конюшни, корявые скелеты деревьев – все исчезло, превратившись в черно-белую абстракцию. Туман замерз, вплетясь в снежную пелену, и свет, пробивавшийся сквозь облака, стал молочным и рассеянным.
К вечеру движение окончательно прекратилось. Мир за окном замер. Только тонкие струйки дыма из труб Особняка упрямо тянулись в неподвижный воздух – последнее доказательство того, что здесь еще теплится жизнь.
А внутри… внутри кипела своя, отдельная вселенная. Вселенная тепла, звуков и запахов.
Я спустилась вниз последней, когда сумерки уже густели в углах высокого холла, и только центральное пространство вокруг камина и длинного стола было залито золотым, пляшущим светом от огня и десятка свечей. Я надела то самое платье от Рена. Его ткань, сначала казавшаяся грубой, теперь обнимала тело знакомой тяжестью, а запах – смесь дыма и сушеных трав – успокаивал. Это была моя броня.
Они уже собрались. И это зрелище, такое обыденное сейчас, пронзило меня острой нежностью. Они были не Всадниками Дикой Охоты в эту минуту. Они были… семьей. Уставшей, странной, но семьей.
Джаэль и Рен двигали массивный дубовый стол, его ноги с глухим скрипом ползли по каменному полу.
– Левее, – сказал Люциан. Он не поворачивал головы, сидя в своем кожаном кресле прямо у камина, лицом к пламени. Его бледные, невидящие глаза были закрыты. – Ровно на пятнадцать сантиметров. Иначе Разиэль, иллюстрируя свой очередной нелепый рассказ, непременно зацепит его бедром. А падение этого монстра с посудой лишит нас ужина и прибавит Рену седых волос.
– Слышишь, оракул? – донеслось из кухонной двери. Разиэль появился на пороге, неся перед собой огромную дымящуюся миску. Пар окутывал его голову, а запах тушеного мяса, можжевельника и кореньев тут же наполнил зал. – Он уже пророчит мои будущие злодеяния!
– Не злодеяния, – поправил Люциан, и уголки его губ дрогнули. – А естественный ход вещей. Как восход или… падение сосульки.
Сариэль с серьезным видом расставлял на столе тяжелые глиняные кружки и ложки, аккуратно вытирая каждую краем рукава. Зориэн, как всегда, сидел на своем островке отчуждения – широком подоконнике. Он что-то чистил, склонившись над каким-то металлическим механизмом, его пальцы двигались быстро, яростно, будто он пытался стереть с поверхности не грязь, а саму реальность. Он не смотрел ни на кого.
И Каэлион. Он стоял спиной ко всем, у самого камина, опираясь локтем о каменную полку. Его темный силуэт был неподвижен, будто высечен из того же камня, что и очаг. Он смотрел в огонь, но я знала – он слушает. Слушает каждый звук, каждый смешок, каждый вздох в этой комнате. Он был осью, вокруг которой вращалась наша маленькая планета. Он обернулся, почувствовав, наверное, мой взгляд. Его глаза тут же нашли меня в полумраке. Он окинул меня быстрым взглядом: состояние, готовность, устойчивость. Но потом, на долю секунды, его взгляд смягчился. В глубине, за привычной броней, мелькнуло что-то усталое, почти беззащитное. То же самое, что давило и на меня – тяжесть предстоящего прощания.
– Наконец-то явилась! – Разиэль с грохотом, от которого задрожали свечи, поставил миску в центр стола. – Мы тут уже начали поедать скатерть от голода. Думали, ты решила войти в образ аскета перед испытанием и постишься в своей келье.
– Или не могла оторваться от зеркала, решая, какое выражение лица будет самым выгодным для встречи с Её Величеством, – парировал Сариэль, с размаху пододвигая мне стул так, что он завизжал по полу. – Садись, солнышко. Место специальное – под пристальным надзором нашего лекаря и в зоне досягаемости моей ложки, если вдруг твоя порция покажется тебе слишком скромной.
Я села. Дерево стула было прохладным даже сквозь ткань платья. Джаэль, не говоря ни слова, протянул руку и налил мне в кружку густой бульон. Пар щекотал лицо, а запах был крепким и наваристым.
– Сначала это, – сказал он. – Потом мясо. Так Рен сказал.
Рен, усаживаясь напротив меня с идеально прямой спиной, кивнул. Его взгляд, острый и внимательный, уже бегал по моему лицу, отмечая малейшие детали.
– Аппетит? – спросил он коротко. – Головокружения, тошнота, озноб?
– Нет, – ответила я, и мой голос прозвучал тише, чем я хотела. – Все спокойно. Только…
– Только в голове тараканы бегают, – закончил за меня Сариэль, с удовольствием накладывая себе в миску огромный кусок мяса. – Знаем. У всех они перед дорогой бегают. Главное – не слушай их. Они плохие советчики.
– Спать ложись сразу, как только поднимешься, – перебил его Рен, не обращая внимания на шутку. – Независимо от мыслей. Завтра понадобятся силы, а не рефлексия.
И началось. Обычный, но такой дорогой моему сердцу хаос. Разиэль с пафосом обвинял Сариэля в том, что тот стащил самый «стратегически важный», то есть самый жирный, кусок мяса еще на кухне, тем самым подорвав обороноспособность нашего ужина. Сариэль, с набитым ртом, клялся, что это акт справедливого возмездия за сгоревшую дотла лепешку, которую Разиэль на прошлой неделе преподнес как «кулинарный прорыв». Джаэль, молча жуя, время от времени вставлял односложные, но невероятно весомые замечания, от которых споры мгновенно затухали. «За столом не воюют», – говорил он, и его спокойный тон действовал сильнее любого окрика. Люциан сидел с легкой улыбкой, повернув лицо к звукам голосов, и иногда задавал вопрос, который показывал, что он следит за бессмыслицей лучше любого зрячего. «Разиэль, если ты съешь тот кусок сала, на который положил глаз, тебе потом придется бежать до столицы рядом с лошадью, чтобы все это сжечь», – сказал он как-то раз, и Разиэль с обидой отодвинул тарелку.
Даже Зориэн в какой-то момент молча подошел к столу, налил себе из кувшина темного, мутного пива и так же молча вернулся на свой пост у окна. Его взгляд скользнул по мне так, как будто я была частью стены. И сейчас это не кололо. Это было частью общей картины, частью этого странного, честного мира.
А я… я ела. Я впитывала не столько еду, сколько атмосферу. Каждую деталь.
Я видела, как Джаэль, не глядя, ловит в воздухе хлебную корку, пущенную Разиэлем в Сариэля, и кладет ее обратно в хлебницу.
– Последнее предупреждение, – произнес он ровно, и близнецы на секунду притихли, как провинившиеся щенки.
Я видела, как Рен, с выражением глубокого презрения на аристократичном лице, отодвинул от себя миску, которую «улучшили» близнецы, и налил себе бульона из чистого, стоявшего рядом горшка.