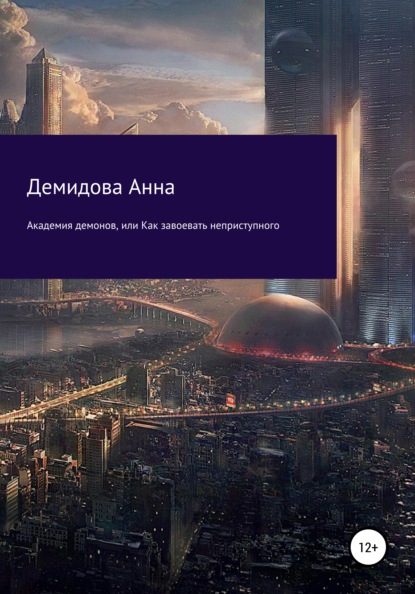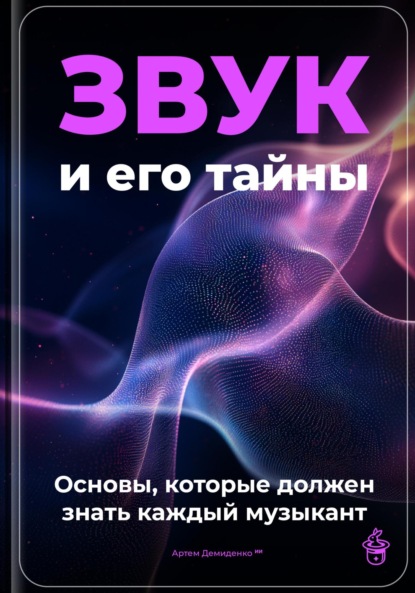Дикая Охота: Легенда о Всадниках

- -
- 100%
- +
– ЗАБИРАЙТЕ МЕНЯ! Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ! Я ЖДАЛ ВАС, СЛИШКОМ ДОЛГО ЖДАЛ! ЗАБИРАЙТЕ! Я НЕ БОЮСЬ, Я ГОТОВ! – слова его хлестали воздух, полные ярости и мольбы, и в них сквозила та самая лихорадка, что жгла его изнутри, делая голос хриплым.
Лёд в моих жилах сменился адреналином, жгучим и стремительным, как лесной пожар. Я выскочила из-за дерева, побежала к нему, по колено в грязи, что чавкала под сапогами, спотыкаясь о корни, падая на колени в лужи, снова поднимаясь, не чувствуя ни усталости, ни холода, ничего, кроме всепоглощающей потребности до него добраться – обнять, встряхнуть, вытащить из этой бездны.
– Йен! Йен, нет! Что ты говоришь, чёрт возьми?! – я подбежала к нему, схватила за руку, пальцы впились в его запястье, как когти. Его кожа была обжигающе горячей, даже сквозь ледяной дождь, будто внутри него пылал пожар, неугасимый и яростный, передающийся мне через прикосновение. – Очнись! Это я, Селеста!
Он обернулся на мой крик, и его лицо в полумгле было неузнаваемым – искажённым безумием, что плясало в чертах, делая их чужими. Глаза горели, но были пусты, устремлены куда-то внутрь себя или в потустороннее, сквозь меня, сквозь этот мир, не фокусируясь на моём лице. Дождь стекал по его щекам, смешиваясь с чем-то, что было похоже на слёзы, но слёзы не от горя, а от исступления – они блестели, как осколки стекла, падая на землю.
– Селеста?Ты… как ты здесь? Уходи. Уходи отсюда, пока не поздно. Сейчас же. Ты не должна этого видеть, не должна… – он попытался высвободить руку, но хватка моя была железной, пальцы белели от напряжения.
– Что видеть, Йен? Что ты несёшь? – я трясла его, вцепившись в рубаху, мокрую и тяжёлую, чувствуя под пальцами жар его тела, как от печи. – Ты болен, у тебя жар! Пойдём домой, ну пожалуйста! Мама уже волнуется, она всегда чует, когда ты… когда мы в беде. Помнишь, как в детстве? Ты обещал, что всегда вернёшься ко мне!
– Поздно, Селеста! Поздно для обещаний, для сказок у очага! – он крикнул, и в его глазах мелькнула та самая знакомая ярость. – Ты ничего не понимаешь! Они уже здесь! Я чувствовал это всё время – эти дни, эта слабость, что вползала в кости, этот огонь внутри, что жрал меня заживо… это был знак! Знак, что они в пути! А сегодня… сегодня я знал, слышал их шаги в голове, их шепот в крови! Я вышел их встретить!
– Почему? – закричала я, и мой голос сорвался в истерике. – Почему они придут именно за тобой? Что ты сделал, Йен?
– Я не хотел! Клянусь тебе, сестрёнка, я не хотел навлечь это на нас! Я хотел защитить тебя, всех – маму с её тихими песнями, отца с его вечными историями о былом. Но я не смог! Во мне нет этой силы, той, что в тебе тлеет, как искра! Есть только эта… эта ярость! Эта боль, что раздирает на части! Они приходят за такими, как я! За теми, кто горит изнутри, кто зовёт их сам, не зная того! Мы для них как факелы в ночи, Селеста – видимые, манящие!
Он рванулся, пытаясь оттолкнуть меня, его рука дёрнулась резко, но я вцепилась в него мёртвой хваткой, обвивая руками его горящую руку, прижимаясь к нему мокрой щекой, чувствуя, как его жар проникает сквозь холод, как биение его сердца эхом отдаётся в моём.
– Нет! Это неправда, Йен! Чушь, которую они нашептали тебе в бреду! – я рыдала, и слёзы тут же смывало дождём, смешиваясь с водой и грязью, стекая по лицу горячими дорожками. – Мы спрячемся! В лесу, в старой хижине, где прятались детьми!
Он посмотрел на меня, и на миг в его безумных глазах что-то дрогнуло – трещина в броне, просеялась, как луч сквозь тучу. Сквозь маску исступления проглянул тот самый мальчик, мой брат, который боялся темноты и любил слушать сказки у очага, его губы дрогнули в полуулыбке, горькой и нежной.
– Сестрёнка… моя маленькая, упрямая сестрёнка, с твоими косичками и этим взглядом, что режет острее ножа… – он попытался поднять руку, дотронуться до моего лица, стереть каплю с щеки, но пальцы его дрожали. – Ты не можешь помочь. Никто не может. Это моя дорога, я выбрал её своей злостью, своим страхом, что гнил во мне, как яд. Они уже в меня вошли. Уходи. Пожалуйста, ради меня. Я не хочу, чтобы ты видела конец. Не хочу, чтобы ты помнила меня таким – сломленным, зовущим их. Забудь эту ночь. Живи. Для мамы, что поёт тебе колыбельные… для отца, что учит тебя плести сети… для себя, Селеста. Ты – огонь, что не погасить.
– Нет! – мой крик был полон не только ужаса, но и гнева – гнева на него, на его смирение, что жгло меня, как кислота, на эту несправедливость, что крушила наш мир.
И в этот миг воздух вокруг изменился. Ливень не прекратился, но его шум словно ушёл куда-то далеко, приглушённый новой, абсолютной тишиной, что сжимала барабанные перепонки. Пахнуло озоном – густым, удушливым, – и… холодом. Могильным холодом, идущим из ниоткуда, из трещин в реальности, обжигающим лёгкие, как иней на оголённой коже. Он вырывался изо рта густыми, тяжёлыми клубами пара. По коже побежали мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Мир затаил дыхание, и в этой паузе послышался далёкий, нечеловеческий шёпот – или это эхо в голове?
Они появились без звука. Просто возникли из мрака и ливня, как кошмар, становящийся явью, материализуясь из самой тьмы, из самого страха, что таился в нас. Ни топота копыт, ни шелеста плащей.
Я никогда не видела их так близко. Издалека, с зажмуренными глазами, украдкой, в полуснах – да. Но сейчас они были здесь, в двадцати шагах, и они были огромными, больше, чем можно было представить в самых чёрных грёзах – исполинскими, подавляющими, как сама ночь.
Чёрные кони, выше любой деревенской лошади, с гривами, что текли, как нефть, и мордами, вытянутыми в оскал вечности. Их мышцы перекатывались под мокрой, лоснящейся кожей, копыта, подкованные во тьме не издавали ни звука, не оставляли следов на размокшей земле, словно они скользили по воздуху. Глаза сияли тусклым багровым светом, в котором не было ни злобы, ни жизни – лишь пустота и холодная решимость. Но страшнее были всадники. Высокие, закутанные в чёрные плащи, колышущиеся на ветру. Их руки в тёмных перчатках сжимали поводья с неестественной неподвижностью. И маски. Грубая, плотная ткань, темная и безликая. Они скрывали нос и рот, оставляя глаза в тени широких полей шляп, и от этого их невидящие лица казались еще более чужими и пугающими. Вспышки молний выхватывали из мглы лишь искаженные тени их профилей и отблески дождя на мокрой материи. И первый из них… у него был длинный черный кнут, витый, как змея. Они двигались не спеша, идеальной рысью, как части одного механизма.
– Нет! Нет! Уходите! – закричала я, повиснув на руке брата, пытаясь оттащить его, увести, спрятать за своей спиной, такой маленькой и беспомощной перед этой стеной тьмы. – Йен, побежим! Давай, ну же! В лес, за дуб – они не посмеют! Ещё не поздно! ПОЖАЛУЙСТА, ЙЕН, БЕГИ СО МНОЙ!
Он вырвал руку, резко, но без злобы – его пальцы скользнули по моим, оставив след жара. Его лицо исказила гримаса – не страха, а странного, торжествующего отчаяния, облегчения от конца муки, как у узника, что видит ключ в замке. Он принял это. Принял их, как неизбежность.
– Беги, Селеста. Этого не избежать, не переиграть, как в твоих играх с ветром. Я не хотел… не хотел этого для тебя, для нас, – он посмотрел на меня, и на миг в его безумных глазах мелькнул тот самый брат, мой брат, который смеялся над моими косичками и гладил меня по голове после кошмаров. – Я так счастлив, что ты – моя сестра. Ты всегда была сильнее меня – с твоим упрямством, что гнёт дубы, с твоим сердцем, что бьётся, как барабан свободы. Сильнее всех нас. Просто… живи. Вспоминай меня не таким, а тем, кто учил тебя ловить звёзды в ладони. И прости меня. Я недостоин. Недостоин такой сестры… таких родителей, что дали нам жизнь в этом аду.
И он поднял меня, как тряпичную куклу, со всей своей запредельной, болезненной силой, и швырнул от себя в грязь. В этом движении не было злобы – только последняя попытка оттолкнуть от пропасти.
Я отлетела, кувыркнулась по мокрой земле, ударилась головой о кочку, и мир поплыл, закружился в вихре боли и искр, наполнился звоном в ушах, острым, как осколки. Я пыталась подняться, но тело не слушалось, захлёбываясь кашлем, глотая грязную, горькую воду, что хлестала в рот, смешанная с землёй и кровью. В ушах звенело, а в глазах темнело.
Когда зрение прояснилось, залитое водой и слезами, что жгли щёки, я увидела, что они уже совсем рядом. Остановились, как статуи в аду. Первый всадник, с кнутом, был в трёх шагах от Йена – его конь дышал тихо, пар вырывался из ноздрей густыми клубами, но звука не было. Йен стоял на коленях. Он больше не смотрел на небо, на тучи, что ревели. Он смотрел на них. И ждал. Его поза выражала не покорность, а вызов – плечи расправлены, подбородок вздёрнут, глаза горят, несмотря на дрожь в руках. Последний вызов, как у воина перед казнью.
Первый всадник двинулся, не спешиваясь. Он лишь взметнул руку, и тонкий кнут со свистом рассёк воздух – свист был высоким, пронизывающим, как визг ножа по стеклу, – обрушившись на спину Йена со страшной, бездушной эффективностью. Йен согнулся, издав сдавленный, горловой звук, больше похожий на хрип, чем на крик, и упал лицом в грязь.
– НЕТ! – мой собственный крик разорвал горло. Я поползла к нему, цепляясь руками за скользкую землю, ногти ломались о камни, грязь забивалась под кожу. – Пожалуйста! НЕТ! ОСТАВЬТЕ ЕГО! Он ничего не сделал! ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ, СЛЫШИТЕ?
Но меня не слышали – или не хотели. Двое других всадников, те, что стояли в строю третьими, легко соскочили с коней. Их движения были выверенными, отработанными, лишёнными всякой суеты, всякой человеческой торопливости или эмоций. Один перевернул Йена на спину, тот не сопротивлялся, лишь слабо застонал. Другой достал из кожаной сумки у седла тёмные верёвки, и они связали ему руки и ноги с механической быстротой, петля за петлей, узел за узлом. Потом один взвалил его тело поперёк седла своего коня, а второй достал чёрную маску из грубой ткани, и натянул её на голову Йена, скрывая его лицо, его последний взгляд – полный любви и боли, – его последний вздох, что вырвался паром. Всё. Готово. Процесс занял несколько секунд – бесчеловечно быстрых и эффективных, как механизм, что перемалывает жизни в пыль.
Я поднялась. Не помню как – ноги дрожали, мир плыл в тумане боли, виски пронзала игла, но я встала. Встала на колени, потом на ноги, вся в грязи, что липла к коже, в крови, что сочилась из ссадин, в слезах, что жгли глаза.
– Нет… – прошептала я, обращаясь к ним. Мои ноги подкосились, и я едва удержалась, протянув к ним руки в немой мольбе. – Пожалуйста… отпустите его. Он же… он же хороший. Мой брат. Он спасал птенцов из гнёзд, делил последний кусок хлеба. Оставьте его. Возьмите меня. Я буду… я буду делать всё, что скажете. Буду служить, молчать, терпеть. Только верните его!
Они не слышали. Или не хотели – тишина их была красноречивее слов. Двое всадников уже вернулись в строй, их кони фыркнули тихо, как вздох. Тот, что был первым чуть отделился от остальных. Его лицо повернулось ко мне. Я почувствовала на себе тяжесть этого взгляда, идущего из-под тени широких полей шляпы. В них не было ни гнева, ни любопытства, ни жалости – лишь пустота, бесконечная, как космос, поглощающая свет.
Он что-то сказал. Вернее, не сказал, а издал звук – тихий, шипящий, похожий на шелест сухих листьев под ногами или на скрежет камня по камню, на лёгкий свист ветра в пустоте. Ничего человеческого. Ничего живого. Это был звук самой пустоты, самой смерти – он проник в уши, в кости, оставляя осадок холода.
И тогда он медленно, очень медленно покачал головой. Нет. Этот жест, исполненный вселенского безразличия был страшнее любого удара кнута. Он был окончательным приговором не только Йену, но и мне, и всем нам – родителям, спящим в тепле, деревне, что шепталась у очагов. Мы были ничем. Пылью под копытами. И нас сдувало ветром, без жалости.
Он развернул коня. Строй тронулся. Сначала шагом, копыта скользили бесшумно, потом рысью, набирая скорость, затем перешли на галоп – ветер взвыл снова, но теперь он нёс их. Они умчались в ночь, в стену ливня, растворились в ней за несколько секунд, будто их и не было. Не оставив следов в грязи. Не оставив звука, кроме эха в моей голове. Унеся с собой моего брата. Унеся часть моего мира – его смех, его тепло, его обещания. Унеся всё, что делало меня целой.
Я стояла, не в силах пошевелиться, и смотрела в ту пустоту, где они только что были – чёрную дыру в ткани ночи. Дождь снова обрушился на землю с прежней силой, словно пытаясь смыть следы кошмара, хлеща по лицу, по плечам, но он не мог смыть пустоту внутри. А потом ноги подкосились, и я рухнула на колени в ледяную, размокшую землю, что обняла меня холодно и равнодушно. Боль, холод, ужас – всё отступило, сменилось одним чёрным чувством. Пустотой, что звенела, как колокол в пустом храме.
Я не кричала. Не рвала на себе волосы, не билась в истерике. Я просто упала лицом в грязь, в эту жидкую, холодную глину, что пахла разложением и солью, и забилась в беззвучных, сухих конвульсиях. Мои пальцы впились в землю, сжимая её, пытаясь ухватиться за что-то, что удержало бы меня здесь и не дало упасть в бездну, но земля была холодной и мёртвой. Как и всё вокруг. Где-то вдали пробился сквозь тучи одинокий луч луны, упал на место, где только что стоял Йен, осветив его – пустое пятно травы, смятое, но уже забывающее форму. Пустота.
Он ушёл. Они забрали его, утащили в свою тьму, где нет места для света. А я осталась лежать здесь. В грязи, что липла к щекам, под ледяным, безразличным дождём. Одна. С эхом его слов в голове.
И тишина после семи ударов молний оказалась самым громким звуком на свете. Она звенела в ушах, давила на виски, была тяжёлым, беззвучным колоколом, отбивающим такт моему одиночеству – тик-так, тик-так, каждый удар – шаг в пропасть. И в этом звоне я слышала его последний шёпот, надломленный и нежный: «Прости меня». И тишина, пришедшая ему на смену, была страшнее любого его крика – она шептала: «Ты одна. Навсегда».
Если вам понравилась глава и вы ждете продолжения – подписывайтесь на мой телеграм-канал: Адель Малия | автор. А ещё там много информации о других книгах и расписание выхода глав❤️
Глава 5: Рассвет цвета пепла
Трек: Again – Earshot – Глава 5
Я не знаю, сколько я так лежала. Час, вечность. Время растворилось в ледяном дожде, в грязи, что липла к щекам, как погребальная маска, в пустоте, что разверзлась внутри меня, поглотив всё – боль, страх, даже слёзы. Мир сузился до клочка размокшей земли под моими пальцами, пахнущей озоном и тленом, и до тяжёлого, свинцового неба, с которого капала безразличная вода. Она смывала кровь с разбитых коленей, но не могла смыть эхо его последнего шёпота: «Прости». Не могла заглушить звук кнута, рассекающего воздух, и тот глухой, влажный хрип, что вырвался из его груди. Моё тело было лишь набором костей и кожи, из которого вынули душу, оставив только звенящую пустоту.
Дождь постепенно стихал, превращаясь в назойливую морось, словно небо устало плакать. На востоке горизонт начал светлеть, окрашиваясь в больной, серо-лиловый цвет – цвет старого синяка. Рассвет. Он пришёл, как всегда, неумолимый и равнодушный, будто этой ночью ничего не случилось. Будто мир не треснул пополам, и его лучшая половина не провалилась в бездну. Я смотрела на этот уродливый восход, и во мне не было ничего, кроме глухого желания, чтобы солнце никогда больше не вставало, чтобы вечная ночь укрыла мой позор и моё горе.
Тело, окоченевшее и непослушное, начало подавать признаки жизни. Дрожь пробежала от пяток до затылка. Холод пробрался в самые кости. Я поднялась. Медленно, с усилием, будто мне сто лет, и каждый сустав протестовал скрипом. Ноги не держали, подкашивались. Мокрая одежда, тяжёлая, как кольчуга, тянула к земле. Я побрела домой, шатаясь и не разбирая дороги. Мир был размытым, нечётким, словно я смотрела на него сквозь мутное стекло. Деревня просыпалась. Где-то скрипнула дверь, мелькнула тень в окне. Я чувствовала на себе их взгляды – любопытные, испуганные, – но не поднимала головы. Я была ходячим призраком, вестником беды, и несла своё горе, как заразную болезнь.
Дверь нашего дома была приоткрыта. Из щели бил тёплый, жёлтый свет очага. Они не спали. Ждали.
Когда я переступила порог, живая и мёртвая одновременно, вся в грязи, с прилипшими к лицу волосами, они оба вскрикнули. Мать бросилась ко мне. Её руки, тёплые, пахнущие дымом и тревогой, обвили мои ледяные плечи. Отец подскочил со своего места у огня, его огромное тело дрожало.
– Селеста! Девочка моя! Где ты была? – голос матери срывался, дрожал, полный слёз облегчения. – Мы проснулись… Йена нет, тебя нет… Мы думали… Господи, мы думали самое страшное! Где он? Он в лесу? Упал, ушибся? Мы найдем его, дочка, только скажи, где он!
Отец обнял нас обеих своими могучими руками, прижал к своей широкой груди так, что захрустели кости. Я чувствовала, как бешено колотится его сердце, отдаваясь в моей грудной клетке.
– Что случилось? – его голос был хриплым рёвом раненого медведя. Затем он встряхнул меня за плечи, заставляя посмотреть на него. – Где Йен?
И тогда плотина прорвалась. Всё, что я держала в себе там, в поле, – вся боль, весь ужас, вся бездонная пустота – хлынуло наружу одним-единственным словом, которое разорвало мне горло.
– Забрали, – прошептала я, и этот шёпот был громче крика.
Я смотрела в их глаза – в испуганные, полные надежды глаза матери, в суровые, требующие ответа глаза отца, – и повторила громче, отчётливее, вбивая каждое слово, как гвоздь в крышку гроба.
– Они. Забрали. Йена.
Лицо матери исказилось, будто она проглотила стекло. Она отшатнулась, её руки безвольно упали. Отец замер, его объятия ослабли, он смотрел на меня, не мигая, и я видела, как в его глазах гаснет свет, как рушится его мир.
– Нет… – выдохнула мать. – Нет, дочка, ты ошиблась… Это был сон, кошмар… Ты промокла, замёрзла… Он вернётся. Он всегда возвращается…
– Молчи, – глухо произнёс отец, обращаясь к матери, и голос его надломился. – Посмотри на нее. Посмотри в ее глаза.
А потом меня накрыло. Я закричала. Нечеловеческим, звериным голосом, полным такой боли, что задрожали стены. Я билась в руках отца, колотила его кулаками в грудь, не чувствуя боли в сбитых костяшках. Это был вой самки, у которой отняли детёныша, первобытный, лишённый слов, состоящий из чистого страдания. Я кричала имя Йена, кричала проклятия, кричала бессвязные, обрывочные фразы. Это была истерика – чёрная, удушливая волна, которая поднялась из самых глубин и накрыла меня с головой. Я рыдала, захлёбываясь слезами и соплями, тело сотрясалось в конвульсиях. Отец держал меня крепко, шепча что-то – «Тише, дочка, тише, моя пташка», – но его голос тонул в моём вое. Мать опустилась на пол, закрыв лицо руками, её плечи беззвучно содрогались. Она тоже плакала. Наш дом, наша маленькая крепость, превратился в обитель горя.
Они успокоили меня. Усадили у огня, закутали в сухое одеяло, влили в рот горячий отвар из трав, обжигающий и горький. Я пила, не чувствуя вкуса, и смотрела в огонь, который плясал, как безумный, отражаясь в моих пустых глазах.
На площади зазвонил колокол. Тяжёлые, скорбные удары. Созывали всех. Ритуал.
Отец тяжело поднялся.
– Надо идти.
– Я не пойду, – сказала я тихо, но твёрдо. – Не пойду на площадь. Я не хочу это слышать. Не хочу слушать, как Элиас бесстрастным голосом объявит, что… что его больше нет. Для меня он не станет просто именем в их списке.
– Это наш долг, Селеста, – устало произнёс отец. – Почтить его память. Быть там. Вместе со всеми.
– Почтить? – я горько усмехнулась. – Стоять в толпе и покорно слушать приговор? Делать вид, что это нормально? Это не почтение. Это унижение. Я не хочу в этом участвовать. Я не верю, что он ушёл просто так. Он что-то говорил… про огонь внутри, про то, что они приходят за такими… Он звал их. Сам.
Отец тяжело вздохнул, провёл рукой по лицу.
– Это бред, дочка. Горячечный бред. Он был болен. Мы все видели. – Он положил руку на плечо матери, помогая ей подняться. – Оставайся дома. Мы пойдём. Мы должны.
Они ушли, оставив меня одну. Я сидела у огня, кутаясь в одеяло, и слушала тишину. Дом казался огромным и пустым. Каждый скрип половицы, каждый вздох ветра за окном отдавался в ушах гулким эхом. Я побрела по комнате, касаясь вещей, которых касался он. Вот его недоструганная фигурка птицы на подоконнике – он обещал доделать её для меня ко дню урожая. Вот его поношенные сапоги у двери, всё ещё хранящие форму его стопы. Каждое прикосновение было как удар ножом.
Я заварила себе ещё чаю, пытаясь успокоиться, согреться. Но холод шёл изнутри.
Я думала о его словах. «Они приходят за теми, кто горит изнутри». Что он имел в виду? Ярость? Ненависть? Но это было в нём всегда. Что изменилось в последние дни?
И тут я вспомнила. Не просто злость и отрешённость. Ему было плохо. По-настояшему плохо.
Я встала и пошла в нашу комнату. К его лежанке. Я искала. Не знаю что. Записку. Какой-то знак. Ответ. Я начала перебирать его вещи, сначала аккуратно, потом всё более лихорадочно, скидывая их на пол. Старая рубаха, пахнущая потом и дождём. Нож, который он так и не успел доточить, – холодная, мёртвая сталь. Несколько потрёпанных книг, которые мы читали вместе, с загнутыми уголками на страницах о героях и драконах. Ничего. Ничего необычного. Только простыни… Они были влажными, липкими от высохшего пота, скомканные в тугой узел. Я вспомнила, как он метался последние ночи, как жаловался на жар, на слабость, которую он, такой сильный, ненавидел больше всего. Это была не просто злость на мир. Это была болезнь, настоящий пожар, сжигавший его изнутри. Чувство вины ледяной змеёй скользнуло под рёбра. Я видела. Я знала. И ничего не сделала. Списала всё на его дурной нрав.
Может, это было предупреждение? Знак, который мы все проглядели? Я гнала эти мысли. Я не хотела ни о чём думать. Я легла на его холодную постель, вдыхая его запах – запах пота, железа и чего-то ещё, неуловимо родного, – и провалилась в тяжёлый, вязкий сон без сновидений.
***
Я проснулась от стука в дверь. Солнце стояло уже высоко, его лучи пробивались сквозь ставни, рисуя на полу яркие квадраты. Родителей всё ещё не было.
Стук повторился настойчивее. Я, пошатываясь, встала, накинула одеяло на плечи и пошла открывать.
На пороге стоял Лоран. Он выглядел уставшим и подавленным. Тёмные круги под глазами, лицо бледное. Увидев меня, он вздрогнул.
– Селеста… – его голос был тихим, полным сочувствия. – Я был на площади. Они… Элиас записал его имя. Мне так жаль, что мне пришлось это услышать. Что всем нам пришлось.
И я снова заплакала. Тихо, без истерики, как плачут от бессилия. Горячие слёзы катились по щекам, и я не вытирала их. Он шагнул внутрь, закрыл за собой дверь и обнял меня. Крепко, но осторожно. Я уткнулась лицом в его плащ, пахнущий дождём и старыми книгами, и рыдала, пока слёзы не кончились.
Он держал меня, ничего не говоря, просто гладил по волосам, и в его молчании было больше утешения, чем в любых словах.
– Это… – сказал он наконец, когда я немного успокоилась. Он отстранился, но продолжал держать меня за плечи, вглядываясь в моё лицо. – Это никогда не касалось меня так близко. Раньше это были имена. Горькие, да. Но… чернила на бумаге. Трагедии, ставшие статистикой. А Йен… я помню, как он спорил со старостой. Как горели его глаза. Он не был просто чернилами. – В его взгляде мелькнуло что-то твёрдое, решительное. – Я не могу просто перевернуть страницу. Не в этот раз. Я хочу этим заняться. Серьёзно.
Я непонимающе посмотрела на него.
– Когда тебе станет чуть-чуть получше… – продолжил он, и его голос стал почти шёпотом. – Приходи в дом Хроников. В наш архив. Я буду ждать. Йен искал закономерность. Он кричал на нас, злился, но он думал. Он пытался бороться, как умел. Просто принять его уход, просто похоронить пустой гроб и ждать следующего – это значит предать его. Мы должны что-то придумать. Найти какую-то зацепку. Что-то, что мы упускали все эти годы. Вместе.
Его слова ударили меня, как пощёчина. Боль, которая на миг утихла в его объятиях, вспыхнула с новой силой, смешавшись с гневом.
– Что ты такое говоришь? – вырвалось у меня. Я оттолкнула его. – Моего брата забрали! Его, может быть, уже нет в живых! А ты предлагаешь… превратить его смерть в загадку? Искать причины? Так ты пришел убедиться, что правильно записал? Проверить детали для своего отчета? Может, тебе нужны подробности? Как свистел кнут? Как он упал?
– Селеста, я… – он растерялся, отступил на шаг, боль отразилась на его лице. – Прости. Я не это имел в виду. Да. Если нужно, я выслушаю и это. Если тебе станет легче. Но я пришел не за этим. Я пришел, потому что твой брат не сдался бы. Он бы не хотел, чтобы мы просто плакали. Он бы хотел, чтобы мы искали. Он искал сам. Злился, кричал, но он искал ответы. Просто принять это… это как плюнуть на его могилу, которой у нас даже нет.